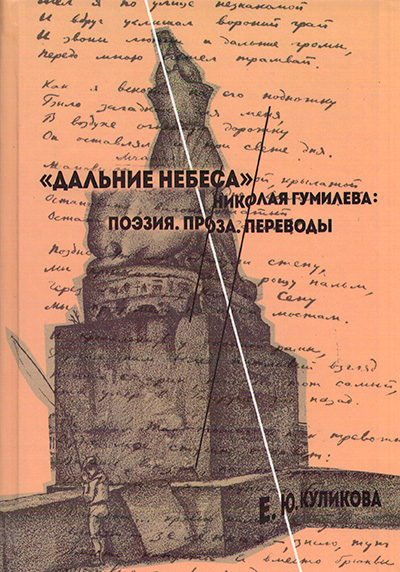О Гумилёве... / Сравнительные характеристики
«Я заблудился навеки...»: «сюрреализм» Н. Гумилёва и А. Рембо
Рассматривается влияние А. Рембо, для творчества которого характерны свойства сюрреалистической поэтики, на Н. Гумилёва. Выделяется реминисцентный слой лирики французского поэта в ранних и поздних стихотворениях Гумилёва. Особое внимание в работе уделено мотиву блуждания через пространство и время - одному из наиболее частотных у Гумилёва. Анализируются тексты, в которых явлен данный мотив. Акцент делается на два стихотворения - «Стокгольм» и «Заблудившийся трамвай». Отмечается, что «Заблудившийся трамвай» имеет сновидческий характер и обладает чертами сюрреализма. Гумилёв создает текст, образно близкий «Пьяному кораблю» Рембо. Сюжет о «заблудившемся» герое у Гумилёва обнаруживает в своем подтексте легенды об исчезновении, несет гибельные смыслы, чреватые трагическим финалом.
В статье «Наследие символизма и акмеизм» Гумилёв писал: «Французский символизм, родоначальник всего символизма как школы, выдвинул на передний план чисто литературные задачи: свободный стих, более своеобразный и зыбкий слог, метафору, вознесенную превыше всего, и пресловутую “теорию соответствий”» [Гумилёв, 2006, с. 147]. «Анри де Ренье, завсегдатай “литературных вторников” Малларме и горячий поклонник Шарля Бодлера, нашел удачную “художественную эмблему” для этой “теории” — сонет Бодлера “Соответствия” (“Les Correspondances”)» [Там же, с. 463-164]. Собственно, так в 80-х гг. XIX в. произошло «теоретическое» оформление французского символизма, в 70-е гг., как полагал Гумилёв, «существовавшего в “импрессионистической” версии П. Верлена и А. Рембо» [Там же, с. 464].
Гумилёв, противопоставлявший акмеизм символизму, тем не менее отмечал: «Мы, русские, не можем не считаться с французским символизмом... Подобно тому как французы искали новый, более свободный стих, акмеисты стремятся разбивать оковы метра пропуском слогов, более, чем когда-либо, свободной перестановкой ударений... Головокружительность символических метафор приучила их к смелым поворотам мысли; зыбкость слов, к которым они прислушались, побудила искать в живой народной речи новых — с более устойчивым содержанием...» [Гумилёв, 2006, с. 147].
Но если Андре Бретон называл Рембо «сюрреалистом в практике своей жизни и во всем прочем», то Гумилёв, один из создателей теории акмеизма, который как будто бы сюрреалистом не был, слышал французскую поэзию во всех ее обертонах — и классического Ш. Леконта де Лиля, и ясного Т. Готье, и «темного», путаного и сложного А. Рембо. Гумилёв принял от французских символистов «безумные» метафоры и «смелые повороты мысли». Рембо можно назвать поэтом «сумасшедших», порой диссонирующих, как бы «вспененных» образов. «Рембо действительно тяготел к созданию шокирующих, контрастных композиций, к соединению взаимоисключающих, разнородных образов» [Гарин, 2003].
Удивительно то, как Гумилёв умел сочетать в своих стихах эти два абсолютно противоположных и словно бы несовместимых начала. И. И. Гарин считает, что сюрреалистическое начало у Гумилёва может идти от Рембо: «Рембо — как затем Малларме, Брюсов, Гумилёв, Волошин, Элиот — придавал движению, спонтанному речевому хаосу, сюрреализму поэтических форм не меньшее значение, чем вечно ускользающему смыслу» [Там же].
Стоит отметить и некоторое сходство судеб двух поэтов. Например, Рембо влекла Африка так же, как и Гумилёва, который собирал «Абиссинские песни» после африканских путешествий и сочинил свои мистификации под тем же названием.
У Гумилёва встречается масса реминисценций из Рембо, более всего, пожалуй, из знаменитого «Пьяного корабля» («Le bateau ivre»), даже в стихотворениях, посвященных одному из самых «сухих» мест мира — Африке. Африку Гумилёв видит полноводной, бушующей волнами на «водяном карнавале». Ее пространство он описывает через водные метафоры. Знаменитый образ кипящего Красного моря выводит топос за рамки традиционного морского мира: «акулья уха, / Негритянская ванна, песчаный котел!» [Гумилёв, 1988, с. 282]. Самое «горячее» море в мире в поэтической трактовке Гумилёва буквально «варится», как суп, между африканским и аравийским берегами. Ураган и волна, «как хрустальная... гора», лишь приносят свежесть, а образы, перекликающиеся с образами «Пьяного корабля» Рембо, включают в себя широкую цветовую палитру:
Целый день над водой, словно стая стрекоз,
Золотые летучие рыбы видны,
У песчаных, серпами изогнутых кос
Мели, точно цветы, зелены и красны.
Блещет воздух, налитый прозрачным огнем,
Солнце сказочной птицей глядит с высоты [Там же].
...rythmes lents sous les rutilements du jour... [Рембо, 1988, c. 176]
.. .медленные ритмы в сиянии дня...1
... Je sais les deux crevant en éclairs... [Там же]
...Я знаю пронзенные светом небеса...
... J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques... [Там же, с. 178]
...Я увидел заходящее солнце, в пятнах мистического ужаса...
... J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants [Рембо, 1988, c. 178].
...Я хотел бы показать детям этих дорад
Из голубой волны, этих золотых рыбок, рыб поющих...
... Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles,
Millions d'oiseaux d'or, ô future Vigueur? [Там же, с. 180]
...Не во время ли этих бездонных ночей ты дремлешь и исходишь,
Подобно миллиону золотых птиц, о ты, будущая мощь?..
И даже в «Африканском дневнике» — прозаическом произведении, частично художественном, частично документальном, есть отсылки к стихотворению Рембо. После рассказа об охоте на акулу в Красном море Гумилёв останавливается на сложных красках заката: «Закат в этот вечер над зелеными мелями Джидды был широкий и ярко-желтый с алым пятном солнца посредине. Потом он стал нежно-пепельным, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе» [Гумилёв, 2005, с. 78]. Переход алого пятна в нежно-пепельный оттенок соотносится с импрессионистическими переливами закатов/рассветов в «Пьяном корабле» Рембо:
Je sais le soir,
E'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes» [Рембо, 1988, c. 176]
Я знаю как закаты,
Так и пылающие рассветы, похожие на стаю голубок.
Рембо совмещает в одном образе пылающий, но не названный прямо алый и так же латентно проступающий пепельный — цвет крыльев голубок. В дневнике Гумилёва выделены оба прилагательных. Колористические игры Рембо касаются более рассветов, чем закатов (почти «материально» оставшихся в предыдущей строке), а Гумилёв как раз акцентирует внимание на заходящем солнце. Так реминисценция становится неотчетливой, почти специально смазанной, но тем самым финал первой главы путешествия приобретает поистине поэтические черты.
И в «морских» стихах Гумилёва отчетливо слышатся отзвуки «Пьяного корабля».
По мнению А. Я. Левинсона, второй стих сонета «Нас было пять... мы были капитаны» «воскрешает в памяти исступленную красоту “Опьяненного корабля” Рэнбо» [Левинсон, 2000, с. 353]: «Водители безумных кораблей». Морская фантастическая тема у Гумилёва, связанная с образом Летучего Голландца, во многом ориентирована на «Пьяный корабль» Рембо. Можно назвать и цикл «Капитаны», герои которого — и моряки «Летучего голландца», и путешественники-исследователи. Они странствуют, потому что влюблены в движение, в новые страны, они мечтают открыть новые миры, «как будто не все пересчитаны звезды, / Как будто наш мир не открыт до конца» [Гумилёв, 1988, с. 154]. Путешествия всегда сладки; моряки Гумилёва, как и корабль Рембо, находятся под «наркозом» странствий. Опьянение от новых мест, не похожих на «страны отцов», переживаемое героями Гумилёва, напоминает строки «Пьяного корабля»:
...J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux
D’homme!.. [Рембо, 1988, c. 178]
Я столкнулся c невероятными Флоридами,
Где примешивается к цвету глаз пантер кожа
Человека!
В статье Р. Матло отмечены переклички стихотворений Рембо «Aichimie du Verbe» («Алхимия слова») и «Mémoire» («Память») с «Памятью» Гумилёва [Matlaw, 1975, р. 653]. Исследователь полагает, что можно было бы сравнивать тематическое развитие текста Гумилёва с «Mémoire» Рембо как изображение «вечно неудавшегося поэтического предприятия», а также, может быть, с его стихотворением «О saisons, ô châteaux» («О времена года, о замки»).
В данной работе речь пойдет о любимом повторяющемся мотиве в лирике Гумилёва — блуждании через пространство и время, поиске своего мира между «бесчисленных светил». Возможно, этот мотив пришел к Гумилёву от Рембо. Попробуем проследить, как это происходило.
Блуждающий герой — один из главных персонажей лирики Гумилёва:
Я вечернею порою над заснувшею рекою,
Полон дум необъяснимых, всеми кинутый, брожу.
Точно дух ночной блуждаю, встречи радостной не знаю,
Одиночества дрожу... [Гумилёв, 1998, с. 19]
Зачарованный викинг, я шел по земле,
Я в душе согласил жизнь потока и скал,
Я скрывался во мгле на моем корабле,
Ничего не просил, ничего не желал.
В ярком солнечном свете — надменный павлин,
В час ненастья — внезапно свирепый орел,
Я в тревоге пучин встретил остров ундин,
Я летучее счастье, блуждая, нашел... [Там же, с. 113]
Следом за Синдбадом-Мореходом
В чуждых странах я сбирал червонцы
И блуждал по незнакомым водам,
Где, дробясь, пылали блики солнца... [Там же, с. 153]
Углубясь в неведомые горы,
Заблудился старый конквистадор,
В дымном небе плавали кондоры,
Нависали снежные громады [Там же, с. 188]
Одна из поэм Гумилёва посвящена евангельскому сюжету о блудном сыне, который «блуждал, то распутник, то нищий», «блуждал... без мысли и цели».
В стихотворении «На далекой звезде Венере...» Гумилёв «отдал дань, пусть в полушутливом тоне, иронической (слегка пародийной) фантазии — тем опытам осмыслении гласных, которые восходят к Рембо и нашли в русской поэзии его времени продолжение у Хлебникова, о чьих стихах Гумилёв с большим вниманием писал в своих статьях о поэзии» [Иванов, 1990, с. 22]:
На Венере, ах, на Венере
Нету слов обидных или властных,
Говорят ангелы на Венере
Языком из одних только гласных.
Если скажут «еа» и «аи» —
Это радостное обещанье,
«Уо», «ао» — о древнем рае
Золотое воспоминанье... [Гумилёв, 2001, с. 135]
Но интересно то, что именно в этом тексте, ориентированном на мелодические игры Рембо, возникает образ «блуждающих золотых дымов», сравниваемых со странниками — пилигримами:
И блуждают золотые дымы
В синих-синих вечерних кущах
Иль, как радостные пилигримы,
Навещают еще живущих [Там же].
Кажется, что Гумилёв сквозь плавающие гласные, обозначающие воспоминание о далеком пропитом, слышит строки Рембо, и это прошлое погружает душу в бесконечные блуждания. Для Гумилёва дорога́ мысль о том, что его душа затерялась в пространстве и как будто ищет свои истоки, свою тайную родину. В стихотворении «Стокгольм», пишет Ю. Верховский, «мы видим сначала как бы слияние души личной с этими душами городов и душевного с внешнереальным, но потом эти воплощения вскрываются, как только этапы странствований и блужданий самой души» [Верховский, 1925, с. 122].
Образ Стокгольма рождается из сна, но сон здесь как будто приоткрывает завесу о происхождении лирического героя:
«О, Боже, — вскричал я в тревоге, — что, если
Страна эта истинно родина мне?
Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,
В зеленой и солнечной этой стране?» [Гумилёв, 1999, с. 188]
Швеция для Гумилёва — и есть тайная прародина, поскольку именно оттуда пришли варяги, принесшие, по словам Н. Оцупа, «внешнюю организующую силу» на Русь [Там же, с. 394].
Но характерно то, что пространство в стихотворении как бы плывет, оно не эпически сфокусировано и определено, а словно бы размыто, с одной стороны, границами сна, с другой — свободным лирическим сюжетом. «Лирика близко соприкасается с онейрическим миром» [Чумаков, 2010, с. 49], и на поверхности текста Гумилёва остается пространство, обладающее совершенно особенными свойствами: оно как бы разнородное — и город, и гора, с которой проповедует лирический герой, и окрестности (тихая вода, леса и поля), и в то же время все это пространство сна героя; он словно не знает, как найти из него выход и куда должен вести этот выход, — вероятно, в другое время. «Лирика, — указывает Ю. Н. Чумаков, — актуализирует сильнее ракурс пространства, а не времени... Лирика, и это ее черта, обладает точечным пространством и вот-вот готова взорваться временем» [Там же].
В стихотворении «Стокгольм» рождается мотив, который впоследствии будет реализован в одном из последних гениальных текстов Гумилёва — «Заблудившемся трамвае», мотив «бездны времен»:
И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времен,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен [Гумилёв, 1999, с. 188].
На связь этих стихотворений обратил внимание Вяч. Вс. Иванов, а Ю. Л. Кроль уточнил, «что “бездна времен” указывает на глубь (или неизвестное множество) разных времен; что эти времена — “не наши”, т. е. иные, чем настоящее время; и что между ними существуют “слепые переходы” или “глухие коридоры”, позволяющие человеку переходить из одного времени в другое; это происходит в особом состоянии — во сне — или, как в “Заблудившемся трамвае”, с помощью “машины времени”» [Кроль, 1990, с. 215].
Не случайно «Стокгольм» и «Заблудившийся трамвай» так тесно соединены: это тексты, в которых пространство как бы расподобляется «в бездне времен» или же «взрывается временем», если использовать термин Ю. Н. Чумакова. Е. Вагин называет «Заблудившийся трамвай» «поразительным сюрреалистическим синтезом прошлой культурной эпохи, убийственной современности и трагических предчувствий близкого будущего» [Вагин, 2000, с. 596]. Э. Сампсон акцентировал внимание на сновидческом, «кошмарном» характере стихотворения, в котором он увидел черты сюрреализма [Sampson, 1971, р. 290-293]. В. Бетаки также называет «Заблудившийся трамвай» «полностью сюрреалистическим произведением»: «В нем все детали выписаны подробно, с почти фотографической четкостью, но в их сочетании (безумном, страшном, заключенном в пространство между соседними образами), в самом факте этих сочетаний угадывается некий особый смысл, некая символика... Это, возможно, первое в мировом искусстве произведение, которое можно без натяжек назвать образцом сюрреализма как стиля видения и выражения» [Бетаки, 1986, с. 12].
В «Заблудившемся трамвае» Гумилёв не только отказывается от своей прежней поэтической манеры, но и создает текст, образно близкий «Пьяному кораблю» Рембо2. Причем это не только какие-то конкретные, частные детали и переклички, это именно типологическое сходство, назовем ли мы его сюрреализмом, как говорили Бретон о Рембо и Бетаки о Гумилёве, или как-то иначе. Миры этих двух стихотворений — «Стокгольма» и «Заблудившегося трамвая» — имеют такую пространственную глубину, которую только способен создать лирический сюжет.
«Слепые переходы пространств и времен» в «Стокгольме» напоминают «глухие коридоры» из «Маскарада» и враждебные коридоры из «Ужаса» — ранних стихотворений Гумилёва. Возможно, это отдаленная реминисценция из «Сидящих» А. Рембо:
Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves
Aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors,
Et leurs boutons d’habits sont des prunelles fauves
Qui vous accrochent l’œil au fond des corridors! [Рембо, 1988, c. 116]
И вы слышите их шаги, слышите, как стучат их лысые головы
О темные стены, шлепают их кривые ноги,
И их пуговицы подобны диким зрачкам,
Которые притягивают взгляд в глубине коридоров!3
Надо сказать, что коридоры воплощают лабиринт, — это характерный мотив для Гумилёва. Его лирический герой часто блуждает в пространстве лабиринта, при этом попадая в разные времена и как бы сколки миров («Венеция» и др.). В «Заблудившемся трамвае» представлены как раз эти сколки миров, это одномоментное смещение пространств и времен. Э. Русинко рассматривает стихотворение с точки зрения бергсонианского представления о времени: «Having crossed the rivers, the persona finds himself in “the abyss of time”, where all sense of sequential chronology is lost» [Rusinko, 1982, p. 387-388] («Переехав через эти реки, лирическое “я”... оказывается в “бездне времен”, где утрачено всякое ощущение последовательной хронологии»). Л. Аллен отмечает, что «здесь на читателя воздействует тщательно продуманный эффект парамнезии (иллюзия уже пережитого и увиденного, обманчивая локализация во времени и пространстве)» [Аллен, 1989, с. 128].
Совмещение и взаимоналожение различных пространств в стихотворении Гумилёва неоднократно отмечалось исследователями: поэт практически контаминирует землю и воду, сливая воедино двойственные образы трамвая и корабля. Р. Д. Тименчик писал, что «сравнительная плавность движения нового транспортного средства окружила его ассоциациями с лодкой... равно как... с обитателями подводного мира... Это отчасти объясняет ориентацию “Заблудившегося трамвая” на “Пьяный корабль” Артюра Рембо...» [Тименчик, 1987, с. 138]. Л. Аллен называет «летящий среди белого дня фантомный трамвай... Летучим Голландцем земной суши» [Аллен, 1989, с. 123].
Трамвай у Гумилёва напоминает «потерянное» в бескрайних просторах судно, что вызывает ассоциации со стихотворениями Дьеркса и Рембо. «Старый отшельник» — брошенный корабль Дьеркса лишен управления, как и «заблудившийся трамвай». «Vaisseau désemparé qui ne gouverne plus»4 — «корабль, потерявший управление, который больше не слушается руля», потерянный, движется по морским просторам.
«Пьяный корабль» Рембо тоже оказывается в странном безвременье: как будто мимо него проходят года, а он, теряя прежний облик, приобретает новые свойства:
Presque île, ballottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds,
Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles
Des noyés descendaient dormir, à reculons!5 [Рембо, 1988, c. 180]
Почти остров, раскачивающий на своем борту дрязги,
Помет птиц-крикунов со светлыми глазами.
И я блуждал, пот сквозь мои обветшалые снасти
Утопленники спускались уснуть, отступая!
О «заблудившемся» ходе времен свидетельствуют такие стихи: «Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques / Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs» [Там же] («Когда июли крушили ударами дубин / Ультрамариновые небеса в пылающих воронках»).
«Заблудившийся» корабль Рембо называет «вечным странником голубой неподвижности» («Fileur étemel des immobilités bleues» [Там же]), что П. Антокольский, любивший Гумилёва, переводит так: «Я, прядильщик туманов, бредущий сквозь время» [Рембо, 1988, с. 396].
Неожиданное прозрение лирического героя у Гумилёва напоминает потрясение «пьяного корабля» Рембо, ощутившего свободу:
Et, dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d'astres, et lactescent [Там же, с. 176].
И с этих пор я погрузился в морскую
Поэму, освещенный звездами и светом Млечного пути.
Свет Вселенной переполняет лирических героев Гумилёва и Рембо — только для корабля это постижение обозначает гибель, а для человека — надежду на спасение. «Des archipels sidéraux» («звездные архипелаги»), которые увидел «пьяный корабль», и «зоологический сад планет» (своего рода «космическая» остановка трамвая) возвращают кружащийся в «бездне времен» мир на круги своя: корабль понимает, как ему дорога «une eau d'Europe... la flache / Noire et froide» [Там же, с. 182] («вода Европы... лужа, / Черная и холодная»), а герой Гумилёва попадает домой. Словосочетание «зоологический сад планет» заключает путешествие лирического героя, предваряя его возвращение в Петербург и обозначая «вход» в город. Если бы в этом сочетании не было последнего слова, то «зоологический сад» уже мог бы указывать на какой-то городской, петербургский эпизод, однако это «сад планет» с фигурами людей и зверей, то есть астрологическая карта звездного неба, уже вплотную приближенного к городу. Ночное небо с созвездиями, его недостигаемая планетарная высота становятся оборотной стороной родного Петербурга.
«Зоологический сад планет» Гумилёва, кроме того, напоминает «огромные стада миров, блуждающие средь ужасов пространства» из третьей части небольшой поэмы Рембо «Солнце и плоть» («Soleil et chair»):
Un Pasteur mène-t-il cet immense troupeau
De mondes cheminant dans l’horreur de l’espace? [Там же, с. 60]
Стихотворения Гумилёва с сюжетом о «заблудившемся» герое обнаруживают в подтексте легенды об исчезновении, несут в себе гибельные смыслы, чреватые трагическим финалом, а самым напряженным моментом таких текстов становится момент возвращения/невозвращения. У акмеистов вообще сильны возвратные смыслы. В. Н. Топоров рассматривает возвратность как проявление связи тела и мира в представлениях акмеистов, а значит, она имеет пространственный ракурс [Топоров, 1995, с. 432]. Между тем возвратность является и темпоральной, и пространственной характеристикой. Как считает О. Ронен, «переворачивание и смешение пластов времени служит сюжетом завершительных текстов Гумилёва и Ахматовой — “Заблудившийся трамвай” и “Поэма без героя”» [Ронен, 2010, с. 185]. Размышляя о возвратности и новизне у акмеистов, исследователь подчеркивает, что их противопоставление «снимается в понятии “предчувствия”, антиципации: поэзия “воспринимается как то, что должно быть, а не как то, что уже было”» [Там же].
Именно такая временная и пространственная возвратность характерна для наиболее «мистических», или «сюрреалистических», если пользоваться этим определением, текстов Рембо. И «Пьяный корабль» — стихотворение, важное для Гумилёва вдвойне: мотив блуждающего корабля определяет сущность лирики поэта, а сюрреалистичность образов Рембо лежит в основе позднего творчества Гумилёва.
Примечания:
1. Подстрочник стихотворений А. Рембо здесь и далее наш. – Е. К.
2. Одним из первых высказал свое мнение о возможном влиянии «Пьяного корабля» А. Рембо на стихотворение Гумилёва Р. Матло [Matlaw, 1975].
3. «Рембо считал реальную жизнь человека неподлинной, ненадежной, сомнительной и видел спасение от обыденности в существовании “высшего порядка”: “Истинная жизнь – это отсутствие. Нас нет в мире”. Это формула не только персонализма, но и сюрреализма, во многом предвосхищенного А. Рембо (сатиры “сидения”, “человекостула” и т.д.) [Гарин, 2003]. По мнению Л. Г. Андреева, «зачатки сюрреалистической поэтики таятся в склонности Рембо... к созданию шокирующе-контрастных композиций, к соединению трудносоединимого в одном образе, вплоть до слияния разнородных элементов» [Андреев, 1988, с. 18] – таких как «человек-стул».
4. Dierx L. Le vieux solitaire. Цит. по: Леон Дьеркс. Старый отшельник // Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2004/01/26-1626 (дата обращения: 09.04.2015).
5. Курсив в художественных текстах здесь и далее наш. – Е. К.
Список литературы:
- Аллен Л. «Заблудившийся трамвай» H. С. Гумилёва: Комментарий к строфам // Аллен Л. Этюды о русской литературе. Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1989. С. 113-143.
- Андреев Л. Г. Феномен Рембо // Рембо А. Поэтические произведения в стихах и прозе: Сб.: На франц. яз. с параллельным рус. текстом. М.: Радуга, 1988. С. 5—45.
- Бетаки В. Избранник свободы: К 100-летию со дня рождения H. С. Гумилёва // Русская мысль. 1986. 11 аир. С. 12.
- Вагин Е. Поэтическая судьба и миропереживание Н. Гумилёва // H. С. Гумилёв: Pro et contra: Личность и творчество Николая Гумилёва в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология / Сост., вступ. ст. и прим. Ю. В. Зобнина. 2-е изд. СПб.: РХГИ, 2000. С. 593-604.
- Верховский Ю. Н. Путь поэта // Современная литература. Л., 1925. С. 93-143.
- Гарин И И. Артюр Рембо // Гарин И. И. Проклятые поэты. М.: Терра-Книжный клуб, 2003. 848 с. URL: https://www.proza.ru/2013/10/13/794 (дата обращения 2.05.2015).
- Гумилёв H. С. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1988. 632 с.
- Гумилёв H С. Полное собрание сочинений: В 10 т. T. 1: Стихотворения. Поэмы (1902-1910). М.: Воскресенье, 1998. 502 с.
- Гумилёв H. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 3: Стихотворения. Поэмы (1914-1918). М.: Воскресенье, 1999. 464 с.
- Гумилёв H. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 4: Стихотворения. Поэмы (1918-1921). М.: Воскресенье, 2001. 394 с.
- Гумилёв H. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 6: Художественная проза. М.: Воскресенье, 2005. 544 с.
- Гумилёв H С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 7: Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии. М.: Воскресенье, 2006. 552 с.
- Иванов Вяч. Вс. Звездная вспышка (Поэтический мир H. С. Гумилёва) // Гумилёв H. С. Стихи; Письма о русской поэзии. М.: Худож. лит., 1990. С. 5-32.
- Кроль Ю. Л. Об одном необычном трамвайном маршруте («Заблудившийся трамвай» H. С. Гумилёва) // Русская литература. 1990. № 1. С. 208-218.
- Левинсон А. Я. Гумилёв. Романтические цветы // H. С. Гумилёв: Pro et contra: Личность и творчество Николая Гумилёва в оценке русских мыслителей и исследователей: антология / Сост., вступ. ст. и прим. Ю. В. Зобнина. 2-е изд. СПб.: РХГИ, 2000. С. 351-355.
- Рембо А. Поэтические произведения в стихах и прозе: Сб.: На франц. яз. с параллельным рус. текстом. М.: Радуга, 1988. 544 с.
- Ронен О. Чужелюбие. Третья книга из города Эн: Сб. эссе. СПб.: Журнал «Звезда», 2010. 400 с.
- Тименчик Р. Д. К символике трамвая в русской поэзии // Ученые записки Тартуского государственного университета: Труды по знаковым системам. XXI: Символ в системе культуры. Тарту, 1987. Вып. 830. С. 135-143.
- Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс — Культура, 1995. 624 с.
- Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М. : Языки славянской культуры, 2010. 88 с.
- Matlaw R. Е. Gumilev, Rimbaud and Africa: Gumilev and the exotic 11 Actes du VI Congres de l’Association Internationale de Litte'rature Compare'e. Stuttgart, 1975.
- Rusinko E. Lost in space and time; Gumilev’s «Zabludivsijsja Tramvaj» // SEEJ. 1982. Vol. 26, № 4. P. 383^102.
- Sampson E. D. In the middle of the journey of life: Gumilev's «Pillar of Fire» 11 Russian Literature Triquartely. 1971. № 1. P. 283-295.