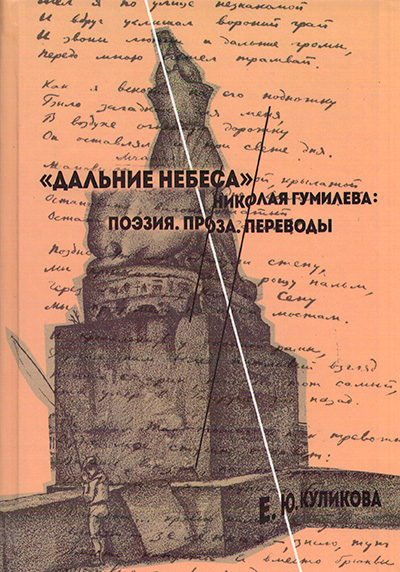О Гумилёве... / Сравнительные характеристики
Об одном мортальном сюжете в творчестве Н. Гумилёва: «Отрубленная голова»
- Автор:
Елена Куликова
- Дата:
2015 год
О Гумилёве…
-
Елена Куликова
About a Mortal Plot in N. Gumilev’s Works: “The Severed Head” -
Кирилл Корконосенко
Неопубликованный перевод Николая Гумилёва: «Малайские Пантумы» Ш. Леконта де Лиля
-
Николай Гумилёв
Мученица -
Николай Гумилёв
Малайские пантумы
-
Николай Гумилёв
Заблудившийся трамвай
Нам важно показать, что истоки сюжета об «отрубленной голове» в «Заблудившемся трамвае» связаны с текстами Леконта де Лиля и Бодлера.
Введение
В данном исследовании мы обратимся к текстам, созданным Н. Гумилевым «под знаком» французской культуры. Нас будет интересовать сюжет об «отрубленной голове», использованный, как мы полагаем, под влиянием французских авторов – Ш. Леконта де Лиля и Ш. Бодлера. Гумилев перевел «Малайские пантуны» Леконта де Лиля и «Мученицу» Бодлера – произведения, центром которых является указанный сюжет. Мы полагаем, что сделанные переводы оказали влияние на одно из последних стихотворений-завещаний Гумилева «Заблудившийся трамвай» из сборника «Огненный столп». Это один из самых загадочных текстов поэта, он неоднократно исследовался в литературоведении. Среди наиболее ярких интерпретаций можно назвать работы Э. Русинко (1982), И. Мейсинг-Делик (1982), Р. Д. Тименчика (1987), Л. Аллена (1989), Ю. Л. Кроля (1990), Ю. В. Зобнина (1993), Е. Сливкина (1999).
Нам важно показать, что истоки сюжета об «отрубленной голове» в «Заблудившемся трамвае» связаны с текстами Леконта де Лиля и Бодлера.
Методика
Методологическая основа нашей работы определяется единством историко-литературного, компаративного и структурного подходов.
«Малайские пантуны» Леконта де Лиля в переводе Николая Гумилёва.
«Малайские пантумы» Леконта де Лиля были переведены Гумилёвым (1919), но не опубликованы, они хранятся в РГАЛИ в фонде Л. В. Горнунга (Гумилёв), «там находятся многочисленные переводы Гумилёва с разных языков, в том числе и с французского, еще неизвестные широкой публике. Это не подлинники: речь идет о материалах, которые... Лукницкий нашел в папках “Всемирной Литературы” и переписал перед тем, как издательство окончательно закрыли» (Лаццарин, 2012). В 2011 г. «Малайские пантумы» в переводе Гумилёва были напечатаны в статье К. С. Корконосенко в «Западном сборнике» (в честь 80-летия П. Р. Заборова) (Корконосенко, 2011).
Сюжет, описанный Леконтом де Лилем, чрезвычайно распространен в романтической и постромантической литературе: дикарка, изменившая своему возлюбленному и погибшая от его руки (возможны разные варианты гибели героини). Поэзия конца XIX-начала ХХ вв. частично возвращается к этой теме. В «Пантунах» выбор «повествователя» – обманутого туземца – хотя и не является традиционным для европейской литературы XVIII-XIX вв., но вполне объясним для автора конца XIX – нач. ХХ вв., стремящегося постигнуть восточный менталитет (своего рода «мистификация» на уровне сюжета), и превратить экзотического персонажа в лирического героя. Любовный треугольник туземка – европеец – туземец характерен практически для любого «экзотического» текста – от шедевров до массовой литературы, однако со второй половины XIX в. акценты начинают смещаться, потому в центр повествования Леконта де Лиля попадает не белый, а обманутый «дикарь».
Финал текста заранее предсказан: уже во второй части пантунов появляется деталь, наводящая на то, что герой отсечет голову своей возлюбленной, – красивая шея героини: «Voici des perles de mascate / Pour ton beau col, ô mon amour!» (Leconte de Lisle) («Вот жемчуга из Маската / Для твоей прекрасной шеи, о моя любовь!»; «Dors, les mains derrière le cou» («Спи, руки за головой (букв.: сзади шеи)») (Здесь и далее подстрочник наш. – Е.К.). В первом случае Леконт де Лиль использует слово «col», главные два прямых значения которого «воротник; воротничок» и «горлышко (бутылки); горловина, сужение». Конечно, в контексте «ton beau col» приоритетным становится именно понятие «шея» – «прекрасная шея» возлюбленной. Во втором случае взято основное прямое значение: «le cou» (шея). Но в переводе на русский язык лучше сказать «руки за головой», поэтому слово «шея» как будто отодвинуто, однако у Леконта де Лиля оно звучит отчетливо. Гумилёв вообще ослабляет ассоциацию, уводя значение в сторону, он пишет: «руки раскидав слегка» (Гумилёв). Зато в первом случае образ даже усилен сравнением: «Убор тебе, о красота, / На шею стройную, как ваза» (Гумилёв) (Курсив наш. – Е.К.).
В заключительной части действие разворачивается на фоне бушующего моря, в его пучине тонет Прао – легкая малайская лодка с героем-убийцей, сделавшим из мачты своеобразный «гроб» для головы своей возлюбленной. Герой любуется мертвым лицом:
«Ô mornes yeux! Lèvre pâlie!..
Voici sa belle tête morte!
Je l’ai coupée avec mon kriss...
Elle saigne au mât qui la berce...
Son dernier râle me poursuit»
(Leconte de Lisle)
«О, тусклые глаза! Бледные губы!..
Вот ее прекрасная мертвая голова!
Я ее отрезал своим малайским кинжалом...
Она кровоточит на мачте, которая стала ее колыбелью...
Ее последний хрип меня преследует»
Гумилёв переводит практически точно, снимая лишь сравнение с колыбелью:
«О бледный рот и взор застылый!..
Вот голова моей любимой!
Я крисом сам ее отсек...
По мачте кровь ее струится...
Последний хрип ее со мной»
Колыбель в «Малайских пантунах» выполняет функции гроба, сближая два противоположных понятия. Подобное соотношение образов создал Т. Готье в стихотворении «Игрушки мертвой»: «Berceau que la tombe a fait creux!» (Готье, 1989) («Колыбель, как и могила, создана полой!»). Переводя «Игрушки мертвой» Готье, Гумилёв заострил антитетичность последнего стиха: «И гроб обидел колыбель» (Готье, 1989).
Не случайно Леконт де Лиль называет мачту «колыбелью»: в качестве шеста она становится «лестницей души» убитой героини, началом ее новой жизни. М. Элиаде писал о том, что «в некоторых малайских племенах в могилы втыкают шесты... тем самым предлагая умершим оставить могилу и вознестись на Небо» (Элиаде). Малайцы также хранили на шестах головы врагов, «к голове относились так, как будто она живая и как будто она до сих пор является вместилищем души» (Дэйви).
Любовь к мертвой в «Малайских пантунах» оказывается сильнее любви к живой:
C’était le destin, je t’aimais!
Que je meure afin que j’oublie!
L’abîme s’ouvre pour jamais (Leconte de Lisle).
Таков был рок, ведь я любил.
Пока я жив, забыть нет силы.
Провал бездонный зев открыл (Гумилёв).
Образ, в котором сплелись красота и смерть, заставляет героя отказаться от жизни и выбрать морскую пучину как символ его бесконечной любви.
В финальной части Леконт де Лиль рисует поэтическую сцену, напоминающую изображения на картинах французских художников- символистов Г. Моро, Г. Доре и О. Редона, которые использовали сюжеты об Орфее, его гибели, и о Иоанне Крестителе и Саломее («Орфей», «Саломея», «Саломея у колонны» и «Явление» Моро, «Голова Орфея» Редона, «Смерть Орфея» Доре). Можно вспомнить также рисунки О. Бердслея к «Саломее» О. Уайльда. «Интерес символизма к этому библейскому образу очевиден как в западном, так и в отечественном искусстве. В России он был усилен влиянием Уайльда и Бердслея» (Бонами, 2014). О мотиве отрезанной головы в искусстве XIX в. писал Ж.-П. Реверсо (Reverseau, 1972).
Именно мотив отрубленной головы важен и в «Пантунах» Леконта де Лиля, и на полотнах Моро и Редона: мертвая голова обретает мистический смысл. В «Явлении» Моро глаза Иоанна смотрят на Саломею, а по его длинным волосам стекают струйки крови. Отрубленная голова парит в воздухе, окруженная ярким сиянием. Картина была выставлена в Парижском Салоне 1876 г., и образ мог остаться в памяти Леконта де Лиля. Невозможно провести прямую параллель между «Малайскими пантунами» и названными картинами, но, конечно, образы и мотивы, столь частые в творчестве французских художников этих лет, не могли не переживаться и не осмысляться поэтами.
«Мученица»Шарля Бодлера в переводе Николая Гумилёва.
В стихотворении Ш. Бодлера «Мученица», переведенном Гумилёвым, отчетливо задана тема любви убийцы к своей обезглавленной жертве. Отрубленная голова героини, не являясь отражением лирического «я», тем не менее сначала описана как глядящая слепым взглядом в глаза читателю:
... qui nous enchaînent les yeux la tête...
Sur la table de nuit, comme une renoncule,
Repose; et, vide de pensers,
Un regard vague et blanc comme le crépuscule
S’échappe des yeux révulsés
(Baudelaire, 1899).
В переводе Гумилёва:
... голова –
На столике ночном, как ренонкул огромный,
Лежит; и уж без дум глядят
Открытые глаза, роняя смутный, темный,
Как будто сумеречный, взгляд
(Бодлер, 2001).
Бодлером обыграно некое «противостояние» читателя и мертвой героини: глаза – в глаза. В своем переводе Гумилёв не акцентирует внимания на взгляде читателя (буквально: «голова, которая притягивает наш взгляд, наши глаза»), в то время как у Бодлера задается столкновение взглядов – прикованного зрительского, и ему в ответ – бессмысленного («Un regard vague et blanc») героини. В финале, задавая риторический вопрос неизвестному герою, абсолютно скрытому в тексте, автор предполагает, не оказался ли убийца tête-à-tête с мертвой головой:
... par tes tresses roides
Te soulevant d’un bras fiévreux,
Dis-moi, tête effrayante, a-t-il sur tes dents froides
Collé les suprêmes adieux?
(Baudelaire, 1899).
... И голову за косы
Держа в трепещущих руках,
Запечатлел ли он последние вопросы
На ледяных твоих зубах?
(Бодлер, 2001).
В стихотворении Бодлера нет зеркальных отражений, нет двойников, но взаиморазглядывание возникает дважды: в начале и в конце текста отрубленная голова «глядит» в глаза другому. Возможно, эта деталь и оказалась для Гумилёва важной, и привлекла его внимание к «Мученице». Если вернуться к «Малайским пантунам», то можно увидеть подобный образ: герой Леконта де Лиля любуется прекрасной головой убитой возлюбленной, словно не осознавая мертвенности ее лица. Он смотрит в ее тусклые глаза, и тем самым возникает зеркальность образов (tête-à-tête). Эта зеркальная позиция объединяет оба текста, переведенных Гумилёвым.
«Отрубленная» голова героя в «Заблудившемся трамвае»
Р. Д. Тименчик отмечает, что «навязчивая идея обезглавливания изначально связалась с трамвайной темой» (Тименчик, 1987). Эту мысль можно продолжить, сопоставив «Берлинское» В. Ходасевича с «Заблудившимся трамваем». В «Берлинском» трамвай становится зеркалом, открывающим новое (мертвое) лицо героя. И у Гумилёва лирическое «я» оказывается лицом к лицу (как в зеркале) с собственным мертвым двойником. Среди мелькающих картин появляется зеленная, где продают отрубленные головы, а в «Берлинском» над поверхностью стола видится «неживая» голова героя. Эффект усилен движением «заблудившегося трамвая» у Гумилёва и «многоочитых трамваев» у Ходасевича. Зеркало как будто быстро мигает, открывая страшную картину: в стихотворении
Гумилёва трамвай «мчится», «летит», не останавливаясь ни на секунду, а в «Берлинском» в водном пространстве расплываются контуры предметов, поэтому увиденное приобретает какой-то ирреальный оттенок. По мнению Ю. И. Левина, многократность отражений также создает «чувство ирреальности реально происходящего, причем действительно существующее (видимое сквозь) и отраженное приравниваются в этой ирреальности (с той же целью используются и “подводные” метафоры)» (Левин, 1988).
Образ Орфея, увиденный Л. Силард у Ходасевича (Силард, 2002), может служить объяснением и отрубленной голове в «Заблудившемся трамвае»: видение «мертвой головы» открывает неизбежную устремленность каждого поэта к судьбе Орфея.
Упоминание «ящика скользкого» с головами рождает воспоминание и о французской революции, поскольку трамвай у Гумилёва несется «через Неву, через Нил и Сену», и две страны – Россия и Франция – оказываются объединенными страшными историческими событиями (См.: Slivkin, 1999).
В «Заблудившемся трамвае» есть и палач («в красной рубашке, с лицом, как вымя»), цвет его рубашки оксюморонно сочетается с вывеской: «кровью налитые буквы / Гласят: «Зеленная» (Гумилёв, 1988). В стихотворении «Судан» из сборника «Шатер» тоже появится палач в таком же облачении: «Толстогубый, с лоснящейся кожей, / Черный, словно душа властелина, / В ярко-красной рубашке палач» (Гумилёв, 1988). Можно отметить, как усиливается мистическое начало в «Заблудившемся трамвае»: орнаментальный палач из «Судана» теряет эффектный облик – из «толстогубого», «лоснящегося» чернокожего он превращается в безликий образ Смерти.
«Негативная оценка крови (пусть даже и пролитой) – единичный случай в творчестве Гумилёва, – отмечает Л. Аллен. – Красный цвет – цвет крови – отнюдь не смущал Гумилёва. Этот цвет всегда пленял его, оказывая на его воображение какое-то гипнотическое действие» (Аллен, 1989). И вот его сочетание с зеленым, причем даже не цветом, а сутью (это название магазина, где продают овощи), смещает отчасти акценты. В стихотворении «Детство» поэт пишет: «Людская кровь не святее / Изумрудного сока трав» (Гумилёв, 1988). Сок трав в «Заблудившемся трамвае» буквально заменен на людскую кровь, более того, на кровь самого поэта. Подмена кочана капусты на человеческую голову осуществляется, по-видимому, по ассоциации с другой сказкой Гауфа «Карлик-Нос». Об этом писали Р. Д. Тименчик, Ю. Л. Кроль, С. В. Полякова.
Собственная смерть видится герою «Заблудившегося трамвая» не случайно. Здесь необходимо сделать небольшое отступление-комментарий. В своих исследованиях о Гумилёве мы анализировали особенности «морской фантастики» в его лирике и подробно рассмотрели «морской сюжет» в «Заблудившемся трамвае» (см.: Куликова, 2009; Куликова, 2009а; Куликова, 2011). О мотивах кораблей-призраков в лирике Гумилёва упоминали критики и исследователи творчества поэта, отмечая и сходство с фантастическими образами Эдгара По, символическими мечтаниями Ш. Бодлера, импрессионистскими образами А. Рембо, жесткими и «мужественными» стихами Р. Киплинга. Как правило, данная тема касалась, в основном, микроцикла «Капитаны», сборников «Романтические цветы» и «Жемчуга».
Мы полагаем, что необходимо расширить привычный объем «морской фантастики» у Гумилёва, «продлив» тему кораблей-призраков и, в частности, «Летучего Голландца» вплоть до его последней стихотворной книги «Огненный столп». Вписанная в лирику Гумилёва легенда о Летучем Голландце скрывает за собой особый пространственный континуум – мир призраков и смерти, без погружения в который, без осознания его таинственной границы невозможно ни одно плавание. Существование призрачного мира обеспечено природой водной стихии, сопричастной довременному хаосу и ритмическому первоначалу мира. Водная стихия, как стихия первоначал, заставляет обратиться к легендарным и мифологическим европейским сюжетам о морских странствиях, и это не только легенды о Летучем Голландце, но и истории об Одиссее, Лорелее и мн. др.
Интертекстуальный фон лейтмотива плавания у акмеистов столь же насыщен, сколь и мотив путешествия, но он имеет свои особенности и свою динамику.
Близость переживания лирического героя стихотворения Гумилёва к судьбе капитана и матросов корабля-призрака заставляет его смотреть на собственное расчлененное тело. Можно отметить и ассоциацию с «Пьяным кораблем» А. Рембо. В первой строфе стихотворения описана смерть матросов: они убиты «краснокожими»:
«Des Peaux-rouges criards les avaient pris pour cibles,
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs»
(Рембо, 1988)
«Кричащие краснокожие сделали из них мишени,
Пригвоздив их, обнаженных, к раскрашенным столбам».
Гибель матросов у Рембо в какой- то мере рифмуется со смертельными предчувствиями лирического героя «Заблудившегося трамвая». В обоих стихотворениях есть палачи и жертвы, либо пригвожденные к столбам (как капитан в «Рассказе о корабле привидений» Гауфа), либо «гильотинированные» («Голову срезал палач и мне»).
Капитан и экипаж «Летучего Голландца» мертвы (у некоторых из них в бою были отрублены головы) – это уже не люди, а фантомы, знающие о том, что такое гибель и видевшие свои мертвые головы. Сочетание этого мотива с «трамвайными» мотивами отсечения головы в русской литературе позволяет увидеть особенности контаминации смерти лирического «я», неоднократно обыгрывавшейся Гумилёвым, и гибельного, «неправильного» последнего путешествия на летучем трамвае. Обычно странствия в лирике Гумилёва описываются как необходимый духовный опыт для поэта, без которого не могло бы быть его творчества, но в «Заблудившемся трамвае» путь вне времени и через пространства пугает и является смертельным. Е. Вагин называет стихотворение «поразительным сюрреалистическим синтезом прошлой культурной эпохи, убийственной современности и трагических предчувствий близкого будущего» (Вагин, 2000).
«Заблудившийся трамвай» – текст, который в каком-то смысле аккумулирует в себе все творчество Гумилёва и поэтому вызывает множество откликов, провоцирует читателей и литературоведов на различные трактовки и истолкования. Нельзя сказать, что сюжеты «Малайских пантунов» Леконта де Лиля и «Мученицы» Бодлера являются прямыми инвариантами «Заблудившегося трамвая», но характерна тяга Гумилёва к обработке сюжета об «отрубленной голове», начиная с 1919 г. Конечно, в 20-е годы ХХ века использование ассоциаций, связанных с революцией, палачами и жертвами казалось естественным. Однако французская почва, переводческая работа стали тем материалом, на котором поэт построил собственное произведение: мотив жертвы (героини с отрубленной головой) преобразовался в легенду о погубленном герое, близком лирическому «я» самого автора.
Заключение
Таким образом, мы отметили интерес Гумилёва к сюжету об «отрубленной голове» в творчестве Леконта де Лиля и Бодлера. И мы считаем неслучайным его использование в одном из самых ярких стихотворений поэта – «Заблудившийся трамвай». Переводы из французских авторов демонстрируют внимание Гумилёва к этой теме. Русский поэт как бы «рассматривает» мотив, «пробует» его, обыгрывая сначала в заимствованных стихах, и наконец, создает образ в своем тексте, видя лирического героя в роли жертвы, представляя собственную гибель. Литературный и художественный подтексты (Леконт де Лиль, Бодлер, картины Моро, Доре, Редона, Бердслея и др.) обогащают сюжетный пласт «Заблудившегося трамвая», открывают в нем скрытые смыслы. Это не значит, что произведения данных авторов являются реминисценциями или цитатами для стихотворения Гумилёва, но без них, как нам представляется, невозможно было бы представить общий фон «Заблудившегося трамвая», его объем и глубину.
Ссылки:
Аллен, Л. (1989). Этюды о русской литературе. Л.: Худож. лит., Ленингр. отд-ние. 156 р.
Бодлер, Ш. (2001). Стихотворения. Харьков: Фолио. 494 р.
Бонами, З.О. (2014). Уайльд. О. Бердслей. Взгляд из России. Оскар Уайльд. Обри Бердслей. Взгляд из России. Moscow, 11-19.
Вагин, Е. (2000). Поэтическая судьба и миропереживание Н. Гумилёва. Н. С. Гумилёв: Pro et contra. Личность и творчество Николая Гумилёва в оценке русских мыслителей и исследователей: антология. СПб.: РХГИ, 593-604.
Готье, Т. (1989). Эмали и камеи: Сборник. Moscow: Raduga. 365 p.
Гумилёв, Н. Малайские пантумы. Леконт де Лиль. Пер Н. Гумилёва. РГАЛИ, ф. 2813, оп. 1, No. 48, л. 1–17.
Гумилёв, Н.С. (1988). Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель. 632 р.
Дэйви, М. Эволюция войн
Корконосенко, К.С. (2011). Неопубликованный перевод Николая Гумилёва: «Малайские пантумы» Ш. Леконта де Лиля. Западный сборник: В честь 80- летия П.Р. Заборова. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 177-186.
Куликова, Е. Ю. (2009а). «Заблудившийся трамвай» Гумилёва и корабли-призраки. Филологический класс: Региональный методический журнал учителей словесников Урала. Екатеринбург, No. 22, 51-57.
Куликова, Е. Ю. (2009). «Летучий Голландец» в «Заблудившемся трамвае» Н. Гумилёва. Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск, No. 4, 39-43.
Куликова, Е. Ю. (2011). Пространство и его динамический аспект в лирике акмеистов. Новосибирск: Изд-во «Свиньин и сыновья». 530 р.
Лаццарин, Ф. (2012). Н.С. Гумилёв – переводчик и редактор французской поэзии во «Всемирной литературе». Вестник Московского университета, Сер. 9. Филология, No. 3, 163-178.
Левин, Ю.И. (1988). Зеркало как потенциальный семиотический объект. Ученые записки Тартуского государственного университета: Труды по знаковым системам. – ХХII. Зеркало. Семиотика зеркальности. Тарту, No. 831, 6-25.
Рембо, А. (1988). Поэтические произведения в стихах и прозе. Moscow: Raduga. 545 р.
Силард, Л. (2002). Герметизм и герменевтика. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха. 328 р.
Тименчик, Р.Д. (1987). К символике трамвая в русской поэзии. Ученые записки Тартуского государственного университета: Труды по знаковым системам. (XXI). Символ в системе культуры. Тарту, No. 830, 135-143.
Элиаде, М. Шаманизм: Архаические техники экстаза.
Leconte de Lisle, Ch.M.R. Poèmes tragiques. Pantouns Malais.
Reverseau, J.-P. (1972). Pour une étude du thème de la tête coupée dans la littérature et dans la peinture du XIXe siècle. Gazette des Beaux-Arts, Sept., 173- 184.
Baudelaire, Ch. (1899). Les fleurs du mal. Paris: Calmann-Levy. 411 p.
Slivkin, Yev. (1999). The last stop of the death machine: an attempt at a rational reading of “The runaway streetcar” by N. Gumilev. SEEJ, V. 43, No. 1, 137-155.
Материалы по теме:
💬 О Гумилёве…
- Елена Куликова. About a Mortal Plot in N. Gumilev’s Works: “The Severed Head”
- Кирилл Корконосенко. Неопубликованный перевод Николая Гумилёва: «Малайские Пантумы» Ш. Леконта де Лиля
🌐 Переводы
- Николай Гумилёв. Мученица
- Николай Гумилёв. Малайские пантумы
🖋 Стихотворения
- Николай Гумилёв. Заблудившийся трамвай