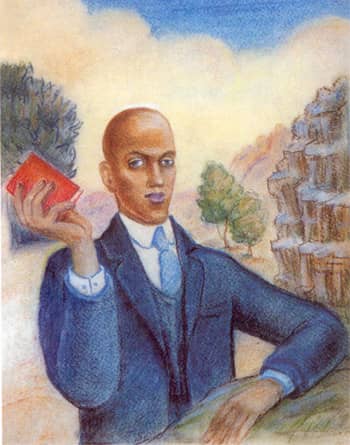Журнальный вариант
Ранним утром 25 августа 1921 года лес около пороховых складов близ Бернгардовки был необычно и страшно оживлен. Круглая поляна на откосе оцеплена вооруженными солдатами, в рассветных лучах виднелась топкая низина прямо под крутым изгибом Лубьи. Рядом с вывороченными вверх мощными корнями завалившегося дерева зияли два свежевыкопанных рва. Конвойные в грубых, грузных шинелях вытягивали из дверей заброшенного пакгауза полуодетых мужчин и женщин — в исподнем, халатах, «толстовках», изодранных полевых гимнастерках без погон — и гнали затем кулаками и штыками к ямам. Вот вывели человека в измятом черном костюме без галстука и, придерживая его за локти, отвели к самому краю нелепого строя, выставленного прямо перед чернеющими в рассветной голубизне неба сосновыми корнями. Арестованный медленно оглянулся и не торопясь, сонным движением потянув из кармана пиджака папиросу, закурил.
Внезапно беготня людей в шинелях оборвалась: на лесной дороге появился открытый черный лимузин. Еще до того, как машина, буксуя и скрипя, застыла, из нее выскочил молодой человек в сером френче, пробежал несколько шагов и крикнул:
— Поэт Гумилёв, выйти из строя!
Человек в черном оживился и, как бы не замечая застывших сзади конвоиров, сделал шаг вперед.
— А они? — и спокойным, плавным жестом левой руки он указал на тихо воющую за его спиной шеренгу.
— Николай Степанович, не валяйте дурака! — крикнул молодой человек.
Человек в черном вдруг улыбнулся, бросил недокуренную папиросу под ноги и аккуратно затушил носком ботинка. Затем так же не торопясь стал в строй у ямы и звонким голосом произнес:
— Здесь нет поэта Гумилёва, здесь — офицер Гумилёв! И раздалась долгая пулеметная очередь… Такова легенда.
***
Мы не знаем достоверно подробностей расстрела в Бернгардовке. Но на низкой, топкой пустоши, неподалеку от той лесной поляны, каждый год в конце августа собираются люди. И стоит там простой железный крест, сваренный из двух труб, и лежат вокруг небольшие валуны: символические надгробия поэтов, убитых и замученных в России…
«Таганцевское дело» 1921 года, одной из жертв которого стал Н. С. Гумилёв, до сих пор не получило в отечественной «литературоведческой мартирологии» объективного отражения, хотя тайна гибели Гумилёва как национальная мифологема находится в одном ряду с тайной гибели Пушкина и тайной гибели Лермонтова.
В советский период истории России ХХ века трагический финал жизни Гумилёва по вполне понятным причинам не был средоточием интересов его биографов. Так, роль «главного историка и архивариуса Гумилёва», добровольно взятая на себя Павлом Николаевичем Лукницким, уже в 20-е годы (сравнительно «вегетарианские», по выражению Ахматовой) была чревата разнообразными неприятностями. Сознавая это, Лукницкий вполне сознательно акцентировал специфику своей деятельности на «бытовом» и «эстетическом» аспектах творческой биографии Гумилёва, тщательно избегая «идеологии» и тем более «политики». Его примеру следовали и продолжатели «советской Гумилёвианы». Впрочем, и такой подход к опасной теме не гарантировал безопасности, а само определение круга общения здесь требовало известных «конспиративных предосторожностей». Ведь без «политики» в «деле Гумилёва» не обошлось.
I
Как ни странно, «официальные» советские источники (вообще — доступные, хотя и не входящие в круг популярных) до сих пор почти никак не прозвучали ни в исследованиях, ни в периодике. Самая полная версия истории «Петроградской боевой организации» (ПБО) представлена в фундаментальной работе Д. Л. Голинкова «Крушение антисоветского подполья в СССР» и выглядит следующим образом.
«В июне 1921 года Петроградская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией напала на след подпольной группы бывших участников Кронштадтского мятежа. <…> Руководителем группы, носившей название «Объединенная организация кронштадтских моряков», оказался бывший матрос линейного корабля «Петропавловск» М. А. Комаров, исполнявший во время мятежа обязанности коменданта кронштадтского «временного ревкома». На его квартире обосновался штаб заговорщиков. Здесь чекисты нашли динамит, документы, печать, штамп, бланки и типографский станок, на котором печатались антисоветские прокламации.
Как выяснилось, Комаров с группой участников Кронштадтского мятежа пробрался нелегально в Петроград из Финляндии по заданию председателя контрреволюционного кронштадтского «временного ревкома» С. М. Петриченко для подпольной антисоветской работы. Заговорщики вербовали сторонников, создавали подпольные ячейки в городских районах и ставили во главе их своих доверенных людей. <…> Все эти «активисты», бывшие участники Кронштадтского мятежа, вернувшиеся из Финляндии, получали от организации ежемесячное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей (советскими денежными знаками того времени).
Далее чекисты установили, что «Объединенная организация кронштадтских моряков» является частью другой, более крупной «Петроградской боевой организации» (ПБО), во главе которой стоял профессор В. Н. Таганцев, член ликвидированного в свое время «Национального центра». Таганцев долго и упорно отказывался дать объяснения, скрывал правду. В конце июля от него все же удалось получить нужные сведения. Стало известно, что «Петроградскую боевую организацию» возглавляет комитет, в который входили В. Н. Таганцев, бывший полковник артиллерии В. Г. Шведов и бывший офицер, агент финской разведки Ю. П. Герман. Эта организация, созданная еще до Кронштадтского мятежа, придерживалась кадетского направления и включала, кроме «Объединенной организации кронштадтских моряков», еще две группы — профессорскую и офицерскую.
В профессорскую группу входили известный финансист князь Д. И. Шаховской, ректор Петроградского университета, бывший царский сенатор профессор Н. И. Лазаревский, бывший царский министр юстиции С. С. Манухин, профессор М. М. Тихвинский и другие. Группа эта «идейно» направляла работу всей организации и разрабатывала проекты государственного и хозяйственного переустройства России, полагая, что свержение Советского правительства — вопрос лишь времени. <…> Разработанные проекты и планы отсылались в заграничный центр организации, в Париж… <…>
Офицерскую группу возглавлял сподвижник Юденича — подполковник П. П. Иванов. Группа разработала план вооруженного восстания в Петрограде и области. Его предполагалось начать одновременно в Петрограде, Рыбинске, Старой Руссе, Бологом и на станции Дно и, таким образом, отрезать Петроград от Москвы. Петроград был разбит на районы, и в каждом из них во главе мятежа поставлен опытный офицер.
Кадет Таганцев вынашивал идею создания «массовой базы», на которую могла бы опираться ПБО, и искал связей с антисоветскими группами, действовавшими среди рабочих. <…> В поисках связи с «демократическими» элементами Таганцев вошел в контакт с группой так называемых «уполномоченных собрания представителей фабрик и заводов г. Петрограда», созданной по меньшевистским рецептам. <…> «Петроградская боевая организация» помогала группе «уполномоченных собрания представителей фабрик и заводов» издавать за границей антисоветские прокламации, которые затем распространялись на предприятиях Петрограда. <…>
Попытки ПБО вовлечь в свои ряды трудящихся закончились провалом. Не помог и контакт с группой «уполномоченных фабрик и заводов» — она сама не была связана с массами трудящихся. Мечты Таганцева о «массовой базе» не сбылись. В мае 1921 года Таганцев начал переговоры с находившимся в Финляндии кронштадтским «временным ревкомом», главари которого… просто-напросто торговали участниками кронштадтского мятежа, интернированными в Финляндии, и направляли их по договоренности с разными антисоветскими группами для подпольной работы в Россию. По соглашению между ПБО и «временным ревкомом» в Петроград приехали несколько моряков во главе с Комаровым, «работу» которых оплачивала ПБО. Эта группа, образовавшая «Объединенную организацию кронштадтских моряков», заменила собой «массовую базу» организации, на нее и возлагали надежды главари заговора.
«Объединенная организация кронштадтских моряков» занялась вербовкой сторонников и подготовкой террористических актов и диверсий. Террористической деятельностью организации руководил матрос В. И. Орловский… Этот шпион, служивший финской и американской разведкам, приобрел гранаты, динамит; его разбойничья группа взорвала в Петрограде памятник В. Володарскому, подожгла трибуны в день первомайского праздника; она готовила взрывы предприятий, террористические акты против деятелей большевистской партии и налет на поезд, в котором перевозились государственные ценности.
Из центра «Петроградской боевой организации», созданного за границей, были получены десятки миллионов рублей. <…>
Арест Таганцева, гибель шпиона Германа, убитого при незаконном переходе границы, внесли замешательство в ряды заговорщиков. В это время произошла смена зарубежного руководства ПБО. На съезде правых белоэмигрантских группировок в Париже состоялось их объединение под руководством бежавшего из России с остатками своих войск барона Врангеля, который стал руководителем «Союза освобождения России». Финансирование этой монархистской организации взял на себя Торгово-промышленный комитет. Один из главарей ПБО — Шведов… получил задание выехать в Петроград для активизации работы ПБО и объединения всех правых группировок. Одновременно в Петроград был послан и резидент «Союза освобождения России» лейтенант П. В. Лебедев. Но надежды заговорщиков, связанные с выездом в Петроград Лебедева и Шведова, не оправдались. ВЧК удалось напасть на их след. <…>
Общее количество арестованных по «делу ПБО» составляло свыше 200 человек. По постановлению Петроградской чрезвычайной комиссии от 29 августа 1921 года наиболее опасные из них, в том числе Таганцев, Шведов, Лебедев, Орловский, были расстреляны, остальные приговорены к различным срокам лишения свободы»1.
В приведенной характеристике «Петроградской боевой организации» бросается в глаза очевидная неоднородность ее состава.
С одной стороны, если говорить об «Объединенной организации кронштадтских моряков» и «офицерской группе», то речь, безусловно, идет об антибольшевистском подполье, цели, структура и методы деятельности которого вполне узнаваемы. «По признанию арестованного Орловского и др. ими были взорваны памятник Володарскому пироксилиновой шашкой и организован ряд покушений на советских вождей. В показаниях от 1 июля с.г. тот же Орловский говорит: «Действительно, я вместе с Никитиным, Перминым, Модестовичем (Черным), Федоровым хотели устроить налет на поезд Красина и забрать все золото и ценности…» По показанию Комарова, организацией подготовлялись взрывы нобелевских складов, взрыв одного памятника на Васильевском острове, поджог 1-го государственного лесозаготовительного завода, бывший Громова, и убийство бывшего комиссара Балтфлота т. Кузьмина»2. В книге Д. Л. Голинкова описывается сеть явочных квартир в Петрограде (хозяйками их были преимущественно женщины, расстрелянные в той же группе, что и Гумилёв), где изымались оружие, динамит и агитационная литература, система агентуры, каналы связи с заграничными центрами. Следует заметить, что активизация подпольных структур в Петрограде весной–летом 1921 года была связана не только с внутренними волнениями в стране (мятеж в Кронштадте и крестьянские восстания), но и с ожиданием внешней белогвардейской интервенции. «13 августа в полномочное представительство ВЧК в Петроградском военном округе поступило распоряжение заместителя председателя ВЧК И. С. Уншлихта обеспечить мобилизацию коммунистов для усиления охраны государственной границы на ближайшие две-три недели. 16 августа президиум ВЧК принял решение усилить пограничные особые отделения и довести численность погранвойск до штатного состава, обеспечив их обмундированием, пайками и т.д. 24 августа председатели ЧК пограничных губерний получили экстренную шифровку за подписью начальников секретно-оперативного и административного отделов ВЧК В. Р. Менжинского и Г. Г. Ягоды. В ней сообщалось, что, по данным ВЧК, на 25–28–30 августа намечалось крупномасштабное вторжение вооруженных отрядов через западную границу Республики. Направленным из Финляндии и Эстонии группам надлежало захватить узловые железнодорожные станции на линии Петроград–Дно–Витебск. Отряды с территории Латвии 28–30 августа занимали Псков. Формирования полковника С. Э. Павловского наносили удар в треугольнике Полоцк–Витебск–Смоленск. Части Н. Махно 28 августа планировали войти в Киев… Руководство ВЧК приказало образовать в губерниях, уездах и на железнодорожных станциях чрезвычайные тройки, скрытно мобилизовать бойцов особого назначения, установить связь с воинскими подразделениями, контроль за коммуникациями и т.д. Указанные меры были приняты. Но сроки прошли, массового вторжения контрреволюционных сил не последовало. Поступила новая директива ВЧК: усиленную охрану ослабить, ибо ожидавшееся вторжение отложено на середину сентября «за неподготовленностью»»3.
С другой стороны, наряду с кронштадтскими моряками и военными ПБО включало в себя и «профессорскую группу» — и именно это придает всей ее истории уникальный характер. И дело здесь не только в мировой известности «фигурантов».
В отсутствие «профессорской группы» — то есть В. Н. Таганцева, Д. И. Шаховского, Н. И. Лазаревского, С. С. Манухина, М. М. Тихвинского, К. Д. Туманова, С. А. Ухтомского, В. М. Козловского, Н. С. Гумилёва и других — «дело ПБО» явилось бы не более чем эпизодом Гражданской войны в России, эпизодом трагическим, кровавым, но вполне закономерным в том историческом контексте. О жестокости чекистов в канун «таганцевского расстрела» свидетельствует В. И. Немирович-Данченко: «О тех истязаниях и муках, которым подвергали обреченных агенты чрезвычайки, передают нечто невероятное… Я воздерживаюсь приводить здесь слухи, тогда волновавшие Петербург»4. Однако по существу действия ПетроЧК по нейтрализации вооруженного подполья вполне объяснимы. Законы военного противостояния известны, и вряд ли можно было бы ожидать от Ю. П. Германа и В. Г. Шведова, увенчайся заговор в Петрограде успехом, чудес всепрощения по отношению к шпионам и диверсантам противной стороны.
Однако деятельность участников «профессорской группы» в ПБО — так, как она представлена в официальных советских источниках, — оказывается, мягко говоря, странной, особенно на фоне тех акций, за которые получали те же смертные приговоры их «сподвижники». «Группа эта, — пишет Д. Л. Голинков, — разрабатывала проекты государственного и хозяйственного переустройства России, полагая, что свержение Советского правительства — вопрос лишь времени. Лазаревский, например, подготовил проекты переустройства местного самоуправления, денежной реформы, план восстановления кредита. Профессор Тихвинский, связанный со старыми служащими нефтяных предприятий Нобеля, собирал сведения о состоянии нефтяной промышленности страны»5. Очевидно, что составление каких бы то ни было «проектов государственного и хозяйственного переустройства России» никак не может быть признано преступным деянием, конгениальным попытке «свержения Советского правительства». Между тем в «таганцевском деле» именно это и произошло, причем некоторые из осужденных не занимались даже «проектами»: «Вина большинства расстрелянных характеризовалась такими выражениями, как «присутствовал», «переписывал», «знала»6, «разносила письма», «дал согласие», «обещал, но отказался исключительно из-за малой оплаты». Или даже так: «доставлял организации для передачи за границу сведения о музейном деле и доклад о том же для напечатания в белой прессе» (князь С. А. Ухтомский, скульптор, сотрудник Русского музея)»7.
Из трех названных руководителей ПБО — Ю. П. Германа, В. Г. Шведова и В. Н. Таганцева — двое первых кадровые офицеры, имевшие большой военный опыт и опыт подпольной работы (однокашник Ю. П. Германа по Петербургскому кадетскому корпусу поэт Г. В. Иванов, встречавшийся с ним в послереволюционном Петрограде, характеризует его как человека «ледяного хладнокровия и головокружительной храбрости», убежденного антикоммуниста и профессионального конспиратора8). И тот и другой при аресте оказали отчаянное сопротивление: Ю. П. Герман был убит при переходе финской границы 30 мая 1921 года (в перестрелке было убито и ранено более десятка чекистов), а В. Г. Шведов смертельно ранен при штурме явочной квартиры 3 августа 1921 года, уложив перед этим двоих нападавших9. Вообще, за исключением «профессорской группы», члены которой при арестах не сопротивлялись, участники ПБО дорого продавали свою жизнь и свободу, резонно полагая, что терять им нечего.
Владимир Николаевич Таганцев (1886–1921), сын известного юриста, сенатора Н. С. Таганцева, был приват-доцентом Петроградского университета. Специальностью его была география (можно предположить, что на этой почве и состоялось его знакомство с Гумилёвым; впрочем, никаких документальных свидетельств о подробностях личных отношений между ними нет).
Таганцев принадлежал к кадетской партии, однако собственно политическая борьба (а тем более борьба подпольная, конспиративная) была для него совершенно «чуждой стихией». В 1919 году, во время осады Петрограда Юденичем, Таганцев имел какие-то контакты с кем-то из членов «Национального центра», мощной антибольшевистской подпольной террористической организации (на ее счету был, например, знаменитый взрыв в помещении Московского комитета РКП(б) в Леонтьевском переулке), но эти контакты «ограничивались разговорами вроде того, что же именно предстоит сделать, когда большевики сбегут из Петербурга»10. «Взгляды Таганцева, — считает В. Крейд, — основывались на вере в интеллигенцию как силу, которая способна путем медленной целенаправленной деятельности сбросить ярмо большевизма. Если у Таганцева и был план, то состоял он не в создании боевой организации, в чем его обвиняли, а в медленной систематической работе над народной психологией. По свидетельству петроградского профессора Н. С. Тимашева, Таганцев предполагал действовать в рамках советского закона, в чем он был последователем и учеником своего отца, убежденного законника (профессор Петербургского университета, сенатор Николай Степанович Таганцев был одним из «столпов» дореволюционной русской юриспруденции). По мысли младшего Таганцева, сама незаконность советских законов должна неизбежно привести к упразднению иррациональных форм власти»11. Собранные В. Крейдом материалы рисуют В. Н. Таганцева «прекраснодушным мечтателем», чем-то вроде тургеневского Рудина, «способного произносить зажигательные речи в частной беседе и удовлетворяющегося разговором как суррогатом действия».
Таганцев стал конфидентом Ю. П. Германа (разумеется, по инициативе последнего) осенью 1920 года. Очевидно, главную роль здесь сыграл прошлогодний эпизод с «Национальным центром»: в антикоммунистических кругах Таганцев слыл «сочувствующим». Теперь речь шла о некой конспиративной структуре в среде научной и творческой интеллигенции, собирающейся в «Доме литераторов», завсегдатаем которого был и Владимир Николаевич. Однако, к разочарованию Голубя (подпольная кличка Ю. П. Германа) и его товарищей, к чисто практической работе Таганцев оказался неспособен. Кабинетный ученый с расплывчатыми и нецельными политическими убеждениями, плохо разбирающийся в людях и не имевший никаких навыков конспирации, он мыслил свою «организацию» чисто теоретически. «О заговоре Таганцева, — вспоминала И. В. Одоевцева, — при всей их наивной идеалистической конспирации — знали (так же как когда-то о заговоре декабристов) очень и очень многие. Сам Таганцев (как, впрочем, и Гумилёв) был прекраснодушен и по природе не заговорщик. <…> Я даже знаю, как там все было устроено: у них были ячейки по восемь человек, и Гумилёв стоял во главе одной из таких ячеек»12. Герман не питал иллюзий относительно дееспособности «профессорской группы» (особенно после того, как узнал, что Таганцев принимает его курьеров у себя на квартире и дает конспиративные поручения… обслуживающему персоналу «Дома литераторов»). Задействована эта группа была один раз, и то не полностью — в самый критический момент кронштадтской эпопеи, когда любое антибольшевистское «лыко» было «в строку», — для агитационной работы в рабочих предместьях. Сам Таганцев вел себя более чем странно. «В мае, за несколько дней до ареста, — вспоминал Тимашев, — несмотря на недавнюю ликвидацию кронштадтского восстания, В. Н. Таганцев был в самом бодром настроении. Он указывал на ряд симптомов пробуждения народного, пробуждения не только городского пролетариата, которое было очевидно для каждого петроградского обывателя, но и крестьянских масс, понявших наконец всю безысходность положения, созданного большевиками, и не удовлетворяющихся подачкой в виде замены разверстки натуральным налогом»13.
В. Н. Таганцев был арестован 5 июня 1921 года, причем поводом для его ареста стала не его нынешняя конспиративная деятельность, а все тот же, давний уже эпизод с «Национальным центром». Тогда, в 1919 году, во время повальных осенних репрессий против «классово чуждых» («красный террор» был в это время в самом разгаре), Владимир Николаевич ареста счастливо избежал, но, очевидно, остался на подозрении у чекистов. «Таганцева погубила какая-то крупная сумма денег, хранившаяся у него, — отмечается в работе В. Крейда. — Возможно, при разгроме Национального центра кто-то из членов этой неудачливой организации передал деньги на хранение В. Таганцеву. При этом его кандидатура была выбрана потому, что Таганцев фактически не был замешан в деятельности Национального центра. Нашли деньги не сразу, хотя в связи с прокатившейся в Петрограде в начале 1921 года волной забастовок и восставшим в марте Кронштадтом начались повальные обыски. Чекисты с помощью двадцати тысяч петроградских рабочих ходили от двери к двери во всех районах города главным образом в поисках оружия. Был обыск и у Таганцева»14.
По этому делу Таганцев получил два года исправительных работ.
Однако в ходе разгрома «Объединенной организации кронштадтских моряков», после арестов М. А. Комарова и В. И. Орловского, «дело Таганцева» было возвращено на доследование. В докладе ВЧК от 24 июля 1921 года он уже фигурирует как «главарь заговора», инспирированного парижским «Союзом освобождения России» (эмигрантский центр антикоммунистического сопротивления, возглавляемый бароном Врангелем). О ПБО пока речи нет, равно как ничего не говорится о «профессорской группе». Состав участников заговора: бывшие офицеры, моряки, адвокаты, бывшие директора, «пробравшиеся на видные посты в советские учреждения»15.
После выхода этого доклада события вокруг «дела Таганцева» начинают развиваться в новом направлении. Немаловажным обстоятельством, на которое уже в 1922 году указывал хорошо информированный Ф. И. Дан (один из руководителей меньшевиков), стало и то, что с 30 мая 1921 года расследование «петроградского заговора» находится под жестким контролем представителя Москвы, «особоуполномоченного особого отдела ВЧК» Я. С. Агранова16.
Яков Саулович Агранов (1893–1938) был одной из самых ярких фигур в чекистских кругах тех лет. В отличие от рядовых сотрудников государственной безопасности, занятых решением тактических задач, это был стратег и аналитик, посвященный в самые сокровенные тайны политики Кремля и внутрипартийной борьбы.
Агранов, выходец из гомельской местечковой еврейской семьи, в 1912 году вступает в партию социалистов-революционеров и становится профессиональным революционером-подпольщиком. В 1915-м он переходит в РСДРП(б). За время подпольной работы Агранов подвергался аресту и ссылке, из которой бежал. По некоторым данным, он был художественно и музыкально одарен, очень начитан и обладал необыкновенным личным обаянием. С другой стороны, даже среди сподвижников-коммунистов Агранов имел репутацию «определенного негодяя по убеждениям, которому не следует подавать руки»17. С ноября 1917 года Агранов работает в секретариате Совнаркома, в 1918–1920 годах является секретарем Малого Совнаркома, то есть поднимается на высшие ступени советской правительственной и партийной номенклатуры. С мая 1919 года с работой в Малом Совнаркоме Агранов совмещал работу в органах госбезопасности РСФСР, появляясь в качестве особого уполномоченного при президиуме ВЧК (то есть личного представителя Дзержинского) на самых ответственных «участках работы» чекистов: он участвовал в подавлении восстания левых эсеров, ликвидации тамбовского и кронштадтского восстаний, разгроме савинковского подполья. В январе 1920 года Агранова окончательно переводят из структур Совнаркома в структуры политической полиции. Это, разумеется, не понижение, ибо он становится особоуполномоченным особого отдела (ОО) ВЧК (во всей тогдашней чекистской номенклатуре, помимо Агранова, таковыми были всего три человека — В. Р. Менжинский, А. К. Артузов и К. И. Ландер; в этой «великолепной четверке» Агранов — самый молодой). В таковом качестве он и приезжает в Петроград.
Во время своего пребывания в Петрограде в качестве следователя по делу «Областного комитета союза освобождения России» он подчинялся не председателю ПетрогубЧК (эту должность занимал тогда ставленник Г. Е. Зиновьева Б. А. Семенов) и даже не самому Зиновьеву, а непосредственно заместителю председателя ВЧК И. С. Уншлихту. Разумеется, интересы Агранова (и его полномочия) далеко не ограничивались собственно проблемами ликвидации непосредственной угрозы антисоветского переворота в Петрограде, — представить себе, что работник такого уровня был командирован для помощи питерским оперативникам, по меньшей мере, наивно.
«Специализацией» Агранова была работа с интеллигенцией.
В течение всего июня и начала июля, когда шла непосредственная работа петроградских чекистов по разгрому заговорщиков, Агранов остается «в тени», однако, когда главные боевые силы заговорщиков были нейтрализованы, а полученные показания неопровержимо доказывали наличие активного антисоветского террористического подполья в Петрограде (о чем и было сообщено в докладе ВЧК от 24 июля), он развивает бурную деятельность по отработке связей раскрытой организации с научной и творческой интеллектуальной элитой.
И главным «объектом» этой деятельности становится В. Н. Таганцев.
С одной стороны, на Владимира Николаевича было, конечно, оказано жесткое моральное (а может, и физическое) давление. Таганцев был вдвойне уязвим, поскольку вместе с ним в заключении содержалась его жена, а их дети, отданные чекистами в воспитательное учреждение, были фактически в положении заложников.
С другой стороны, «игра» Агранова с Таганцевым предполагала и куда более изощренные приемы. Специально для беседы с Таганцевым был приглашен один из руководителей ВЧК В. Р. Менжинский, который лично дал гарантии безопасности как ему, так и всем возможным участникам заговора в случае откровенного признания. «Идея Таганцева, — свидетельствует академик В. И. Вернадский, — заключалась… в том, что надо прекратить междоусобную войну, и тогда В. Н. готов объявить все, что ему известно, а ГПУ дает обещание, что никаких репрессий не будут делать. Договор был подписан»18. «В эмигрантской газете «Дни», ¹ 1070, 1926, — пишет В. Крейд, — была опубликована заметка, в которой разъясняется, что же именно произошло с Таганцевым за закрытыми дверями Шпалерной и Гороховой тюрем. «Это именно Менжинский, — говорится в заметке, — дал слово Таганцеву пощадить всех участников дела, если он назовет без утайки…» Менжинский был едва ли не самым образованным человеком в чека… Он происходил из католической семьи, его отец занимал видную должность в Пажеском корпусе. В молодости Менжинский вел жизнь, достойную представителя золотой молодежи. Вместе с тем писал стихи, мечтал о славе писателя. <…> Одновременно он заканчивает Петербургский университет, а чувство коллегиальности у обычных петербургских студентов было развито чрезвычайно. Таганцев поверил честному слову «коллеги» и назвал имена тех, с кем когда-либо разговаривал на политические темы. Таким способом и был составлен список заговорщиков и состряпан сам заговор»19.
Точнее, таким образом был «состряпан» не заговор, а та его часть, которая и стала называться «профессорской группой». Вероятнее всего также, что Таганцев не ограничился одним только «честным словом коллеги» о том, что «все будет хорошо», — это даже и при всей наивности Владимира Николаевича было бы «чересчур». Условия «договора» были более конкретными. И. В. Одоевцева вспоминала, что «большевики пообещали Таганцеву открытый процесс с легким исходом», после чего якобы Владимир Николаевич так воодушевился, что «сам ездил в автомобиле с чекистами по городу и показывал им, кто где живет»20. У «договора» были и «правовые гарантии», настолько оригинальные, что они-то и являются самым замечательным и значительным штрихом во всей «таганцевской эпопее».
«Договор», заключенный Таганцевым, был убедителен. Поэтому знакомство арестованных после показаний Таганцева участников «профессорской группы» (эта «волна» арестов приходится на первые числа августа) с этим «договором» — в виде очной ставки с самим Владимиром Николаевичем или в пересказе его следователями-чекистами — оказывалось сильным аргументом в пользу их сотрудничества со следствием. С этого момента все содержательные акценты «дела о контрреволюционном заговоре в Петрограде» радикально меняются: центральными его фигурантами становятся не боевики-заговорщики, офицеры и матросы, а крупнейшие деятели науки и культуры Петрограда. Таганцев оказывается главным лицом в «деле ПБО», «вождем и теоретиком» (покойные к этому времени Ю. П. Герман и В. Г. Шведов «теряются» в рядах прочих агентов, связных и боевиков), а само дело обретает имя «таганцевского заговора» — имя, с которым оно и входит в историю.
Финал известен.
Никакого суда — ни открытого, ни даже закрытого — над «таганцевцами» не было, ибо ПетрогубЧК использовала для завершения дела постановление ВЦИК и СТО от 4 ноября 1920 года, предоставляющее губернским революционным трибуналам и чрезвычайным комиссиям право «непосредственного исполнения приговора до расстрела включительно в местностях, объявленных на военном положении», а в Петрограде военное и осадное положение было введено еще в связи с кронштадтскими событиями.
Пятьдесят девять человек, в том числе большинство участников «профессорской группы» (В. Н. Таганцев, Н. С. Гумилёв, Н. И. Лазаревский, М. М. Тихвинский, С. А. Ухтомский, В. М. Козловский и др.), были расстреляны в промежутке между 24 (дата «Заключения» по «делу Гумилёва» — единственному частично рассекреченному из 382 томов «дела о ПБО») и 31 августа (дата доклада Б. А. Семенова на заседании Петроградского совета, где был обнародован список казненных; в этот список вошли и убитые при аресте Герман и Шведов), более ста получили различные сроки заключения и исправительных работ. Аресты же по подозрению в причастности к «таганцевскому заговору» продолжались всю первую половину 20-х годов.
II
После стольких лет я пришел назад,
Но изгнанник я, и за мной следят.
Н. С. Гумилёв,
июль — начало августа 1921 г.
Но изгнанник я, и за мной следят.
Н. С. Гумилёв,
июль — начало августа 1921 г.
Разумеется, полное открытие архива «таганцевцев» дало бы массу дополнительных подробностей, однако документы «дела ¹ 214224», что опубликованы в книге В. К. Лукницкой21, в совокупности с многочисленными свидетельствами мемуаристов вполне позволяют выстроить ясную и непротиворечивую версию событий, которые привели к трагической развязке. К разочарованию большинства романтически настроенных поклонников Гумилёва, следует сразу отметить, что ни «невинной жертвой», ни, напротив, «активным борцом с бесчеловечным режимом» Николай Степанович не был, равно как и другие участники «профессорской группы», павшие под чекистскими пулями в августе 1921 года.
В канун возвращения в Россию из Англии, в марте 1918 года, Гумилёв был, по крайней мере, не враждебен новому политическому строю. Самым убедительным доказательством тому является избранная им позиция строгого нейтралитета в схватке красных и белых, равно как и то, что после прибытия на родину он оказался не на Дону, а в Петрограде. Вероятно, на первых порах, он склонен был видеть в бытовых лишениях и репрессиях «военного коммунизма» неизбежные «издержки», объективно присущие любой исторически активной эпохе. И даже будучи убежденным «традиционалистом, монархистом, империалистом и панславистом», он в 1918–1919 годах с большим сочувствием относился к просветительским предприятиям советской власти, активно сотрудничал с Луначарским и Горьким.
Однако в 1920 году его настроения меняются. «Убитый ныне Гумилёв, — писал в 1921 году сумевший покинуть Россию А. Левинсон, — грезил наяву об обращении за защитой к писателям всего мира. У нас было отнято все, и все в нас запятнано прикосновением — неизбежным — к звериному быту. Души наши были конфискованы; в себе уже не найти было опоры»22. По свидетельствам С. В. Познера и В. И. Немировича-Данченко, Гумилёв планировал бегство за границу, находя сложившуюся в России ситуацию тупиковой. Немирович-Данченко приводит слова поэта, сказанные во время совместной прогулки, когда оба «обдумывали планы бегства из советского рая»: «Да ведь есть же еще на свете солнце, и теплое море, и синее-синее небо. Неужели мы так и не увидим их… И смелые, сильные люди, которые не корчатся, как черви, под железною пятою этого торжествующего хама. И вольная песня, и радость жизни»23. Именно тогда, летом 1920 года, Гумилёв пишет первый — страшный — вариант известной «Канцоны» («И совсем не в мире мы, а где-то…»):
Кажется, уж где-то было это.
Так же сердце билось все сильней,
Так же перелистывало лето
Синие страницы ясных дней.
Нет, довольно слушать лжепророков,
Если даже лучшие из нас
Говорят об исполненье сроков
В этот темный и звериный час.
В час гиены мы взыскуем рая,
Незаслуженных хотим услад,
В очереди мы стоим, не зная,
Что та очередь приводит в ад.
......
Там, где все сверканье, все движенье,
Пенье все, — мы там с тобой живем.
Здесь же только наше отраженье
Полонил гниющий водоем.
Вот в этом душевном состоянии Гумилёв и встречается впервые с Голубем-Германом. Предысторию встречи подробно описывает Г. В. Иванов: «В Доме литераторов люди без опаски знакомились и сразу же заговаривали на интересовавшие их темы. <…> Однажды в такой компании за морковным чаем шел разговор о бегстве. Взвешивали достоинства и недостатки разных границ и способов их перейти. <…>
— Да, предатели, кругом предатели, — вздохнула сухая, придурковатого вида старушка в зеленой вязаной кофте — в недавнем прошлом кавалерственная дама.
— Ну, зачем же все, — возразил ей знаменитый адвокат. — Не все. Вот хотите бежать за границу — бегите с Голубем. Голубь не предаст.
— Кто такой Голубь? — заинтересовался сидевший рядом Гумилёв.
— А это, Николай Степанович, по вашей части, — отнесся к нему адвокат. — Вы писали стихи о конквистадорах. Вот вам и есть настоящий конквистадор. Молодой еще человек, гвардейский офицер. Теперь агент не то британской, не то французской разведки. Ходит, представьте себе, через Сестру-реку аки посуху, чуть ли не каждый день. Сегодня в Петербурге, послезавтра в Гельсингфорсе, через неделю опять в Петербурге. Перевозит людей, носит почту, снимает военные планы. <…>
— Интересно было бы встретиться, — сказал Гумилёв. — Люблю таких людей. Да и дело может найтись.
— За границу хотите?
Гумилёв постучал папиросой о крышку портсигара:
— Там уж посмотрим. Вообще, интересно. Устройте мне знакомство, а? Адвокат наморщил лоб:
— Устроить можно, если он, конечно, захочет. Я его снова увижу».
Далее Иванов рассказывает, как Гумилёв передал ему «поклон» от Голубя-Германа, который зашел к поэту «прямо из Финляндии». О содержании беседы Гумилёв не сказал ничего, заметив: «Это, друг мой, все вещи, которые стоят выше моей болтливости и твоего любопытства. Тут дело идет о жизни и смерти многих. Может быть, даже о всей России»24.
«Знаменитый адвокат» у Иванова — почти наверняка В. Н. Таганцев (мемуарист путает его с отцом), поскольку именно с рассказа о знакомстве Гумилёва с Германом тот начинает свое «чистосердечное показание» о Гумилёве (протокол от 6 августа 1921 года). Однако о содержании их первых бесед (состоявшихся, очевидно, в сентябре–октябре 1920 года) Таганцев не сообщает. Зато об этом — конечно, не договаривая и сознательно путая даты и факты, хотя ни Германа, ни Шведова уже нет в живых, — говорит на первом известном нам допросе 9 августа 1921 года сам Гумилёв: «Месяца три тому назад ко мне утром пришел молодой человек высокого роста и бритый, сообщивший, что привез мне поклон из Москвы. Я пригласил его войти, и мы беседовали минут двадцать на городские темы. В конце беседы он обещал мне показать имеющиеся в его распоряжении русские заграничные издания. Через несколько дней он действительно принес мне несколько номеров каких-то газет. И оставил у меня, несмотря на мое заявление, что я в них не нуждаюсь. Прочтя эти номера и не найдя в них ничего для меня интересного, я их сжег. Приблизительно через неделю он пришел опять и стал спрашивать меня, не знаю ли я кого-нибудь, желающего работать для контрреволюции. Я объяснил, что никого такого не знаю, тогда он указал на незначительность работы: добывание разных сведений и настроений, раздачу листовок и сообщал, что эта работа может оплачиваться. Тогда я отказался продолжать разговор с ним на эту тему, и он ушел. Фамилию свою он назвал мне, представляясь. Я ее забыл, но она была не Герман и не Шведов».
Последнее — правда, ибо и тот и другой общались с Гумилёвым под конспиративными псевдонимами (Голубь и Вячеславский), а вот реакция поэта на предложение Германа была, судя по показаниям Таганцева, совершенно иной: «Поэт Гумилёв после рассказа Германа обращался к нему в конце ноября 1920 года. Гумилёв утверждает, что с ним связана группа интеллигентов, которой он сможет распоряжаться и в случае выступления согласна выйти на улицу, но желал бы иметь в распоряжении для технических надобностей некоторую свободную наличность. Таковой у нас тогда не было». Эти показания Таганцев подтвердил и на допросе, который происходил накануне расстрела, уточнив при этом: «Насколько я помню, в разговоре с Ю. Германом [Гумилёв] сказал, что во время активного выступления в Петрограде, которое он предлагал устроить <подчеркнуто красным карандашом>, к восставшей организации присоединится группа интеллигентов в полтораста человек». В воспоминаниях Г. В. Иванова сохранено впечатление Голубя от общения с Гумилёвым: «Он умный человек, но рассуждает как ребенок. Ну, романтик, — все равно. Правда, честь, Бог, прогресс, разум… это как когда начинали войну, скакала конная гвардия в атаку — палаши наголо, в белых перчатках»25.
«Мы решили тогда предварительно проверить надежность Гумилёва, командировав к нему Шведова для установления связей. В течение трех месяцев, однако, это не было сделано», — завершает свои показания о первом эпизоде «контрреволюционной деятельности» поэта Таганцев.
Действительно, три последующих месяца (декабрь 1920-го, январь и начало февраля 1921-го) в жизни Гумилёва до предела насыщены всевозможными заседаниями в творческих объединениях, издательскими делами, публичными выступлениями, но ни о каких контактах и акциях, которые можно было бы истолковать инспирацией гéрманотаганцевского «комитета», речи не идет. Единственный странный «конспиративный» эпизод с визитом к Гумилёву перед Рождеством 1921 года неизвестной ему «немолодой дамы» от поэта Бориса Верина26 с запиской, «содержащей ряд вопросов, связанных… с заграничным шпионажем, например сведения о готовящемся походе [большевиков] на Индию», — о чем Гумилёв говорил на допросе 18 августа 1921 года, — по всей вероятности, никак непосредственно с «таганцевским» (точнее — с «гéрмановским») подпольем не связан. По крайней мере, в «деле Гумилёва» этот «сюжет» никакого продолжения не получил; не исключено, что поэт пытался «запутать следы», упоминая имя человека, заведомо находящегося вне досягаемости чекистов.
Да и какая там «контрреволюционная деятельность» — ведь осенью 1920 года Гумилёв с Германом так ни о чем и не договорились. Герман предложил Гумилёву «добывать разные сведения и раздавать листовки», намекнув, что эта работа может оплачиваться. Гумилёв в ответ предложил Герману не размениваться на мелочи, а, не откладывая дело в долгий ящик, организовать «активное восстание в Петрограде», потребовав на это масштабное мероприятие такую сумму, которой ни Герман, ни вся его организация на тот момент не располагали. Прагматик Герман, к тому времени, вероятно, уже «досыта» наобщавшийся с креатурами Таганцева, прилива энтузиазма от Гумилёвского проекта не испытал, а потом жаловался Иванову, что Гумилёв при всем его уме, коль скоро речь идет о реалиях политической борьбы, «рассуждает как ребенок»…
Во всяком случае, никаких поручений — даже «добычу сведений и раздачу листовок» — Герман решил «романтику» Гумилёву не давать, а Таганцеву посоветовал еще раз его проверить.
Но за более важными и ответственными делами (именно в это время начал завязываться «узел» кронштадтских событий) проконтролировать выполнение этого поручения Герман забыл, а Таганцев, вероятно, счел Гумилёва «завербованным», а свою миссию выполненной. С другой стороны, сам Гумилёв, в отсутствие какого-нибудь «продолжения», снова погрузился в привычную литературную суету. «Он… отрицал коммунизм и горевал об участи родины, попавшей в обезьяньи лапы кремлевских правителей, — писал о Гумилёве в 1920–1921 годах С. Познер. — Но нигде и никогда публично против них не выступал. Не потому, что он боялся рисковать собой, — это чувство было чуждо ему, не раз на войне смотревшему в глаза смерти, — а потому что это выходило за круг его интересов»27. Как эмоциональный эксцесс, не имеющий глубокого основания в миропонимании Гумилёва, трактует его «контрреволюционную активность» осенью 1920 года и В. Крейд: «…примечательно одно из признаний Гумилёва в передаче Немировича-Данченко — признание, целиком противоречащее тому, что говорил [о разговорах с Гумилёвым] Юрий Герман Георгию Иванову. «На переворот в России никакой надежды, — говорил Гумилёв. — Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовиться к нему глупо. Все это вода на их мельницу». Возможно, это и не совсем противоречие. Разговор с Немировичем-Данченко происходил <…> в 1920 году. Позднее мысль о какой-нибудь освободительной деятельности стала казаться Гумилёву более реалистической — не исключено, что это случилось в итоге разговоров с Германом»28.
Заговорщики вспомнили о Гумилёве лишь в марте 1921 года, когда кронштадтский кризис переходил в открытое вооруженное противостояние и восставшим позарез требовалась поддержка петроградцев. «Только во время Кронштадта Шведов выполнил поручение: разыскал на Преображенской ул. поэта Гумилёва, — говорил на допросе Таганцев 6 августа 1921 года, — адрес я узнал для него во «Всемирной литературе», где служит Гумилёв. Шведов предложил ему помочь нам, если представится надобность в составлении прокламаций. Гумилёв согласился, сказав, что оставляет право отказываться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам. Гумилёв был близок к Совет.[ской] ориентации. Шведов мог успокоить, что мы не монархисты, а держимся за власть Сов.[етов]29. Не знаю, насколько [он] мог поверить этому утверждению. На расходы Гумилёву было выделено 200 000 советских рублей и лента для пишущей машинки. Про группу свою Гумилёв дал уклончивый ответ, сказав, что для организации ему потребно время. Через несколько дней пал Кронштадт». На допросе 18 августа 1921 года Гумилёв несколько уточняет показания Таганцева: «В начале Кронштадтского восстания ко мне пришел Вячеславский с предложением доставлять для него сведения и принять участие в восстании, буде оно переносится в Петроград. От дачи сведений я отказался, а на выступление согласился, причем указал, что мне, по всей вероятности, удастся в момент выступления собрать и повести за собой кучку прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением. Я выразил также согласие на попытку написания контрреволюционных стихов. Дней через пять он пришел ко мне опять, вел те же разговоры и предложил гектографировальную ленту и деньги на расходы, связанные с выступлением. Я не взял ни того ни другого, указав, что не знаю, удастся ли мне использовать ленту. Через несколько дней он зашел опять, и я определенно ответил, что ленту я не беру, не будучи в состоянии использовать, а деньги 200 000 взял на всякий случай, ожидая или событий, то есть восстания в городе, или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их, потому что после падения Кронштадта я резко изменил мое отношение к Советской власти. С тех пор ни Вячеславский, никто другой с подобными разговорами ко мне не приходили, и я предал все дело забвению».
Итак, Гумилёв трижды встречался со Шведовым-Вячеславским в «кронштадтские дни». Но ни в показаниях Таганцева, ни в показаниях Гумилёва, ни даже в «Заключении» и справке в «списке расстрелянных» ни о каких конкретных действиях Гумилёва (кроме того, что он взял-таки «со второго захода» 200 000 рублей от Шведова) ничего не говорится. Таганцев утверждает, что Гумилёв «согласился» написать прокламации (но не написал) и «уклончиво» пообещал через какое-то время организовать некую группу (но не организовал). Гумилёв «берет на себя» даже несколько больше: он признает, что определенно «согласился» и на выступление, а затем «ждал» «восстания в городе» (но такового, естественно, не дождался). Чекистов это вполне устроило, и вину Гумилёва они сформулировали вполне согласно с показаниями обоих: поэт «взял на себя [обязательство] оказать активное содействие в борьбе с большевиками и составлении прокламаций контрреволюционного характера».
Между тем, как и следовало ожидать, на деле Гумилёв вовсе не ограничился пассивным ожиданием «часа икс». Он действительно пытался «вести пропаганду», маскируясь (без особого успеха) «под рабочего». В. Крейд полагал, что Гумилёв был одним из двух-трех человек из «профессорской группы», кто «хоть в некоторой степени действовал», и приводит рассказ Амфитеатрова: «Такую «штуку с переодеванием» <…> Гумилёв устроил в день бунта работниц на Трубочном заводе, когда был избит и прогнан с позором известный большевицкий оратор-агитатор Анцелович. Ради этого маскарада он опоздал на весьма важное свидание, назначенное ему у меня в доме. <…> А Гумилёв потом, когда я стал ему пенять на его неаккуратность, отвечал сконфуженно:
— Тем досаднее, что вышло глупо. Узнают по первому взгляду — и никакого доверия. Еще спасибо, что не приняли за провокатора.
— Да извините, Николай Степанович, но, с позволения сказать, какой черт понес вас на эту гамру?
— Увлекся. Думал, что «начинается». Ведь лишь бы загорелось, а пожару быть время».
Историю с переодеванием подтверждают еще два мемуариста. Одно из воспоминаний принадлежит Георгию Иванову. «В кронштадтские дни, — писал он в «Современных записках», — две молодые студистки встретили Гумилёва, одетого в картуз и потертое летнее пальто с чужого плеча. Его дикий вид показался им очень забавным, и они расхохотались. Гумилёв сказал им фразу, смысл которой они поняли только после его расстрела: «Так провожают женщины людей, идущих на смерть»»30.
Описывая февраль–март 1921 года, Д. Л. Голинков отмечает: «Во время «волынок»31 в Петрограде и Кронштадтского мятежа члены ПБО распространяли среди рабочих прокламации антисоветского содержания, а один из лидеров организации, В. Г. Шведов, выступал с антибольшевистскими речами даже на заводских собраниях». Тут и у самого большого скептика возникает вопрос: «А не с Николаем ли Степановичем?» Ведь именно Шведов-Вячеславский, именно в эти самые дни и приходил к Гумилёву «с проверкой». Проверка она и есть проверка: и вот Гумилёв, в кепке и пальто с чужого плеча, опаздывает к Амфитеатрову на «важное свидание» — и именно к этим дням относится появление странного «Пантума»32 с редчайшим у Гумилёва (пожалуй, единственным) недвусмысленным политическим «подтекстом»:
Какая смертная тоска Нам приходить и ждать напрасно. А если я попал в Чека? Вы знаете, что я не красный! Нам приходить и ждать напрасно, Пожалуй, силы больше нет. Вы знаете, что я не красный, Но и не белый, — я — поэт. Пожалуй, силы больше нет Читать стихи, писать доклады, Но и не белый, — я — поэт, Мы все политике не рады.
Писать стихи, читать доклады, Рассматривать частицу «как», Путь к славе медленный, но верный: Моя трибуна — Зодиак! Высоко над земною скверной Путь к славе медленный, но верный, Но жизнь людская так легка, Высоко над земною скверной Такая смертная тоска.
Шведов просит Гумилёва составить прокламации — и вдруг возникает странная «проблема гектографировальной ленты» (а не ленты для пишущей машинки, как заявлял Таганцев, из показаний которого эта оговорка и перекочевала в обвинительное «Заключение»). Но ведь буквально в те же самые дни на гектографе печатается рукописный журнал «Цеха поэтов» «Новый гиперборей» (вышло 23 экземпляра)33. Резонно предположить, что во время первой встречи со Шведовым Гумилёв, соглашаясь составить прокламации, предложил отпечатать их на гектографе, благо «выход» на этот агрегат (весьма труднодоступный в условиях «военного коммунизма») тогда у синдика «Цеха поэтов» был. Нужны были лента и, разумеется, деньги гектографисту за услуги. Через несколько дней Шведов принес и то и другое, но Гумилёв, который, очевидно, за это время успел навести справки, от ленты отказывается: вероятно, его знакомый гектографист решил не рисковать: антисоветские листовки не рукописный журнал стихов. Деньги же Гумилёв берет, и тот же Амфитеатров, кстати, объясняет почему: для агитации среди рабочих и красноармейцев нужна была водка, много водки…
Об этом же эпизоде с листовкой и гектографом вспоминает и Г. В. Иванов, случайно зашедший к Гумилёву, очевидно, во временнoй промежуток между первым и вторым посещением Шведова: «Однажды Гумилёв прочел мне прокламацию, лично им написанную. Это было в кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать восставших матросов, говорилось в ней что-то о «Гришке Распутине» и «Гришке Зиновьеве». Написана она была довольно витиевато, но Гумилёв находил, что это как раз язык, «доступный рабочим массам». Я поспорил с ним немного, потом спросил:
— Как же ты так свою рукопись отдаешь? Хоть бы на машинке переписал. Ведь мало ли куда она может попасть.
— Не беспокойся, размножат на ротаторе, а рукопись вернут мне. У нас это дело хорошо поставлено»34.
Интересно, что упоминание о «ротаторе» позволило В. Крейду, еще не знакомому с показаниями Таганцева и Гумилёва (свою статью он писал до выхода книги В. К. Лукницкой, где «дело Гумилёва» впервые было опубликовано), усомниться в достоверности сообщаемых Ивановым сведений: «Найти издателя или просто типографию было делом сложнейшим. Петроград испытывал бумажный голод. Все типографии давно уже были реквизированы. Большинство из них не работало. Те, которые как-то уцелели, работали на большевиков. <…> По уверениям советского историка, имеющего доступ в чекистские архивы, подобные «летучки и воззвания» печатались тогда в Стокгольме и затем переправлялись в Петроград»35.
Совершенная правда, но, как мы знаем, именно тогда доступ к гектографу у Гумилёва как раз был! Потому-то Шведов и ухватился за уникальную возможность: это было, конечно, и быстрее, и безопаснее, нежели переправка тиража из Стокгольма. Но главное — это безусловное доказательство правдивости сообщаемых Ивановым сведений. Желая мистифицировать читателей, он не стал бы упоминать столь неправдоподобную для всех, знакомых с бытом Петрограда в эпоху «военного коммунизма», и совершенно необязательную деталь. А это значит, что и пресловутое витиеватое «воззвание», сопрягающее «Гришку Зиновьева» с «Гришкой Распутиным», было написано Гумилёвым! Иванов был уверен, что именно этот текст и послужил главной уликой: листок с «воззванием» Гумилёв затерял где-то в своих бумагах, а чекисты-де, обыскивая архив поэта, «воззвание» обнаружили. Мы знаем, что это не так: в «деле Гумилёва» текста нет, а в «списке расстрелянных» говорится лишь об «активном содействии» Гумилёва в «составлении прокламаций к.-револ. содержания»36.
В критический момент поэт оказался верен слову, данному Герману и Таганцеву. Без особой охоты, не ощущая себя вполне «ни красным, ни белым» («Мы все политике не рады!»), он сделал все, что тогда от него требовал «проверяющий», и даже больше.
Пользы это, впрочем, заговорщикам не принесло: 17–18 марта 1921 года (пятидесятилетие казни парижских коммунаров!) войска Тухачевского разгромили Кронштадт, начались аресты, и руководители заговора ушли в глухое подполье. Всякие контакты поэта с ними вновь прервались («Стороной я услыхал, что Гумилёв весьма далеко отходит от контрреволюционных взглядов. Я к нему больше не обращался, как и Шведов и Герман, и поэтических прокламаций нам не пришлось ожидать», — свидетельствовал на допросе Таганцев). А практический опыт «конспиративной работы», вероятно, внушил Гумилёву скептическое отношение ко всякой подобной деятельности.
«Накануне своего ареста, — вспоминал В. И. Немирович-Данченко, — он еще раз заговорил о неизбежности уйти из России.
— Ждать нечего. Ни переворота не будет, ни Термидора. Эти каторж ники крепко захватили власть. Они опираются на две армии: красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры… Слепцы, они играют в руки прово кации. Я не трус. Борьба — моя стихия, но на работу в тайных организа циях я бы теперь не пошел»37.
И все же именно на последние дни перед арестом приходится третий, и последний «всплеск конспиративной активности» Гумилёва. Член «Всемирной литературы» профессор Б. П. Сильверсан в частном письме к А. В. Амфитеатрову вспоминает, что в конце июля 1921 года Гумилёв обратился к нему с предложением вступить в руководимую им секцию некой подпольной организации: «Он предложил мне вступить в эту организацию, причем ему нужно было сперва мое принципиальное согласие (каковое я незамедлительно и от всей души ему дал), а за этим должно было последовать мое фактическое вступление в организацию: предполагалось, между прочим, воспользоваться моей тайной связью с Финляндией, то есть предполагал это, по-видимому, пока только Гумилёв; он сообщил мне тогда, что организация состоит из пятерок, членов каждой пятерки знает только ее глава, а эти главы известны только одному Таганцеву; вследствие летних арестов в этих «пятерках» оказались пробелы, и Гумилёв стремился к их заполнению, он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленны и захватывают влиятельные круги Красной Армии; он был чрезвычайно конспиративен и взял с меня честное слово, что я о его предложении не скажу никому… <…> Из его слов я заключил также, что он составлял все прокламации и вообще ведал пропагандой в Красной Армии…»38 С таким же предложением Гумилёв обращался и к Г. В. Иванову, который, в отличие от Б. П. Сильверсана, от участия в «пятерке Гумилёва» отказался.
«Когда арестовали Таганцева, — писал Иванов, — и пошли слухи, что раскрыт большой заговор, я Гумилёва спросил: не та ли это организация, к которой он имел касательство? Он улыбнулся:
— Почем же я знаю? Я только винтик в большом механизме. Мое дело держать мое колесико. Больше мне ничего не известно.
— Но если вдруг это твое начальство арестовано, ведь могут схватить и тебя.
Невозможно, — покачал он головой. — Мое имя знают только два человека, которым я верю, как самому себе»39.
Гумилёв имел в виду Таганцева и Шведова (Герман был убит 30 мая, и слухи об этом ходили в Петрограде). Даже когда уже открыто заговорили о том, что Таганцев «сдает» и Гумилёва прямо предупреждали об опасности и предлагали бежать, Гумилёв, по свидетельству Г. Иванова, не поверил этому: «Благодарю вас, но бежать мне незачем»40.
3 августа 1921 года он был арестован в своей комнате в Доме искусств, препровожден в здание ПетроЧК на Гороховой, а затем в камеру ¹ 77 Петроградского дома предварительного заключения на Шпалерной, 25.
В отличие от Таганцева, Гумилёв в ходе следствия не выдал никого. На допросе 18 августа, говоря о тех, кого он обещал возглавить в случае восстания в Петрограде, Гумилёв упомянул «кучку прохожих» и анонимных «бывших офицеров». На допросе 20 августа он особо уточнил, что, говоря с Вячеславским-Шведовым «о группе лиц, могущих принять участие в восстании, имел в виду не кого-нибудь определенного, а просто человек десять встречных знакомых из числа бывших офицеров, способных в свою очередь соорганизовать и повести за собой добровольцев… Фамилий лиц я назвать не могу, потому что не имел в виду никого в отдельности, а просто думал встретить в нужный момент подходящих по убеждению мужественных и решительных людей». И наконец, на последнем, предсмертном допросе 23 августа 1921 года Гумилёв заявил: «Никаких фамилий, могущих принести какую-нибудь пользу организации Таганцева путем установления между ними связей, я не знаю и потому назвать не могу».
Именно поэтому о его деятельности в качестве руководителя «пятерки» (или «восьмерки», по утверждению И. В. Одоевцевой) мы и не можем сказать ничего определенно достоверного. Ни в «деле Гумилёва», ни в расстрельном «Заключении» ни о чем подобном речи нет. Г. В. Иванов писал, что после ареста поэта некоторые его знакомые, которых он считал (впрочем, не имея о том никаких конкретных сведений) участниками «Гумилёвской пятерки», «были очень напуганы». «Но испуг их был напрасным, — заключает Иванов. — Никто из них не был арестован, все благополучно здравствуют: имена их были известны только ему одному…»4
Гумилёв действительно участвовал в реально имевшей место в Петрограде в 1920–1921 годах антибольшевистской подпольной организации, именуемой ныне «таганцевским заговором», но очевидно, что статус Гумилёва в антибольшевистском сопротивлении 1920–1921 годов был объективно весьма скромным (это, с большой долей вероятности, можно отнести и ко всем участникам т. н. «профессорской группы» ПБО), а конкретные действия в рамках общей деятельности организации носили разовый, эпизодический характер. Иными словами, хотя Гумилёв и считал в 1920–1921 годах возможной и необходимой для блага страны борьбу с коммунистическим режимом, ни «вождем», ни «идеологом», ни даже «активным членом» антибольшевистского движения он не был.
Это, кстати, вполне соответствует его натуре, мало подходящей к работе профессионального подпольщика-конспиратора, неизбежно предполагающей в исполнителе некоторую долю цинизма и «нравственной эластичности». «Гумилёв — и участие в заговоре — это все равно что Зиновьев — и вызов на дуэль, — говорилось в одном из некрологов 1921 года. — Гумилёв мог ехать в Африку охотиться на львов; мог поступить добровольцем в окопы, мог бы, если бы до того дошло, предупредить Зиновьева по телефону, что через час придет и убьет его, но Гумилёв-заговорщик, Гумилёв-конспиратор — неужели мы все сошли с ума?»42 Похоже, что и большинство рядовых чекистов, которые вели «дело ПБО» представляли себе роль знаменитого «фигуранта» таким же образом. М. Л. Слонимский вспоминал, что в конце двадцатых годов «сын поэта Константина Эрберга Сюнерберг», работавший в музее ГПУ, показывал ему имеющиеся в музее материалы о «таганцевском заговоре». «Он показал мне схему заговора, составленную ЧК по показаниям арестованных. Гумилёву отводилось, помнится, самое второстепенное место — работа среди интеллигенции, где-то на периферии»43.
Однако Гумилёв был расстрелян. Мало того, именно Гумилёв и члены «профессорской группы», а не лидеры и боевики ПБО оказались «главными действующими лицами» «таганцевского заговора» в советских исторических интерпретациях трагедии 1921 года.
Почему?
Расхожий ответ на этот вопрос до сих пор основывается на мнении о поголовной патологической кровожадности сотрудников ВЧК, расстреливавших без разбора всех, кто по каким-то причинам оказывался в поле их зрения. Более «умеренная» (и более доказуемо корректная) версия того же ответа отсылает к практике бессудного расстрела заложников в годы «красного террора». Однако связь «таганцевского дела» именно с «красным террором» очень проблематична, и профессиональные историки, обращавшиеся к «делу ПБО», прекрасно понимают это. М. Петров, например, прямо указывал на то, что расстрел «таганцевцев» «не следует увязывать с «красным террором». Еще 17 января 1920 года ВЦИК и СНК приняли постановление об отмене смертной казни»44. «Как раз в 1921 году заговорщиков могли и не расстрелять! — пишет о том же Д. Фельдман. — Постановлением ВЦИК и Совнаркома от 17 января 1920 года высшая мера наказания в ряде случаев отменяется: «Революционный пролетариат и революционное правительство Советской России с удовлетворением констатируют, что разгром вооруженных сил контрреволюции дает им возможность отложить в сторону оружие террора»»45.
Другими словами, в январе 1920 года вполне определенная и закрепленная в соответствующих постановлениях советского правительства методика классовой борьбы, получившая название «красного террора», была постановлением же советского правительства отменена. Это, кстати, не было следствием нравственного «просветления» в умах коммунистических лидеров, а явилось результатом вполне объяснимой политической необходимости.
Все дело в том, что «красный террор» применялся как элемент политики коммунистов, стратегической целью которых в 1918–1919 годах был «экспорт» мировой революции в крупнейшие европейские страны, прежде всего — в Германию, переживавшую после поражения в Мировой войне и унизительного, разорительного для ее экономики мира кризис (порождающий, как известно, «революционную ситуацию»). Затем сроки «мировой революции» отодвинулись и начался процесс пересмотра внутренней и внешней политики на основе ленинской идеи о «временном сосуществовании двух систем». «Красный террор» был хорош, когда коммунистические вожди России не видели необходимости считаться с европейским общественным мнением, ибо планировали скорый захват власти в Европе «Третьим Интернационалом». Сейчас же следовало начинать процесс внешнеполитического самоопределения РСФСР, на очереди стояла дипломатическая (а не военная) борьба за признание Советской России. Варварские, антиправовые методы борьбы с внутренними политическими противниками, основанные на «классовой целесообразности» и «революционной совести», в таких условиях были неуместны.
Сотрудники ВЧК (равно как и других силовых структур РСФСР) прежде всего были чиновниками, выполняющими правительственные распоряжения. Это никак не отрицает наличия в их рядах патологических душегубов, получавших особое, личное удовольствие от карательно-пыточной «работы», но в целом террористический характер деятельности чекистов в 1918–1919 годах, принесший им такую страшную «славу», был результатом скрупулезного выполнения ими руководящих указаний коммунистического режима. С января 1920 года указания меняются — соответственно меняются и характер, и, главное, методика деятельности ВЧК.
И все-таки и Гумилёв, и многие из «профессорской группы» ПБО попадают под расстрельный приговор, несмотря на очевидную даже для самих чекистов незначительность их «преступных деяний»…
III
В мой смертный час Франциск за мной слетел,
Но некий черный херувим вступился,
Сказав: «Не тронь; я им давно владел…»
Данте. Ад. Песнь XXVII
Но некий черный херувим вступился,
Сказав: «Не тронь; я им давно владел…»
Данте. Ад. Песнь XXVII
«Легализация» наследия Гумилёва, открытая публикация его стихов, оказалась тесно связана с необходимостью его юридической «реабилитации». Целый ряд видных юристов и общественных деятелей — горячих поклонников творчества поэта — начиная с хрущевской «оттепели», с 60-х годов, настаивали на пересмотре «дела Гумилёва» и, соответственно, снятии запрета на публикацию его произведений. Успехом — уже в «перестроечные» 80-е — увенчалась попытка заслуженного юриста РСФСР Г. А. Терехова.
«Я ознакомился с делом Гумилёва, — писал Терехов, — будучи прокурором в должности старшего помощника Генерального прокурора СССР и являясь членом коллегии Прокуратуры СССР.
По делу установлено, что Н. С. Гумилёв действительно совершил преступление, но вовсе не контрреволюционное, которое в настоящее время относится к роду особо опасных государственных преступлений, а так называемое сейчас иное государственное преступление, а именно — не донес органам советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщицкую офицерскую организацию, от чего он категорически отказался. <…>
Мотивы поведения Гумилёва зафиксированы в протоколе его допроса: пытался его вовлечь в антисоветскую организацию его друг, с которым он учился и был на фронте. Предрассудки дворянской офицерской чести, как он заявил, не позволили ему пойти «с доносом».
Совершенное Гумилёвым преступление по советскому уголовному праву называется «прикосновенность к преступлению» и по Уголовному кодексу РСФСР ныне наказывается по ст. 88(1) УК РСФСР лишением свободы на срок от одного до трех лет или исправительными работами до двух лет. Соучастием недонесение по закону не является.
В настоящее время по закону и исходя из требований презумпции невиновности Гумилёв не может признаваться виновным в преступлении, которое не было подтверждено материалами того уголовного дела, по которому он был осужден»46.
Терехов, используя свой безусловный авторитет «посвященного» в тайны архивов госбезопасности, предлагал какую-то чересчур сложную версию: Гумилёв осужден несправедливо, но не потому, что был невиновен, а потому, что наказание было неадекватно его вине… Но тогда сразу «повисали в воздухе» многочисленные новые вопросы, на которые статья ответа не давала. Если заговор все-таки был и вина Гумилёва только в «недонесении» о нем, то как относиться к тем обвинениям, которые перечислены в общеизвестном «списке расстрелянных» («содействие составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещание связать с организацией группу интеллигентов, получение денег на технические надобности»)? Являются ли они клеветой на поэта? Но тогда почему об этом ничего не сказано? Зачем специально оговаривать отличие «соучастия» от «недонесения», если речь идет именно и только о «недонесении»? Почему присутствует апелляция к презумпции невиновности и накладывается табу на некие данные, не содержащиеся в «деле Гумилёва»? И какие это данные? И где они?
Зачем Терехову, который, мягко говоря, многое не договаривал — из самых лучших побуждений! — надо было называть Германа школьным другом и однополчанином Гумилёва? Герман был однокашником Георгия Иванова (по Кадетскому корпусу) и на фронте действительно был, но с Гумилёвым вместе не служил. Для общей концепции защиты Гумилёва, выработанной Тереховым, этот очевидный и не имеющий никаких оснований в «деле Гумилёва» домысел никак не нужен! Помимо того, о «предрассудках чести, не позволяющих пойти «с доносом», сам Гумилёв ничего не «заявлял»: в ныне известных протоколах его допросов такого нет. Зачем же нужно было вносить эти дополнительные смысловые нюансы в столь важную и столь очевидную формулу версии мотивации его поступков? Или все-таки в деле были еще какие-то документы, изъятые перед тем, как В. К. и С. Н. Лукницкие предали «дело Гумилёва» гласности? Ведь время, прошедшее от ареста поэта (ночь с 3 на 4 августа) до составления первого из известных нам протоколов (9 августа), «зияет» в «деле Гумилёва» непристойной пустотой!
Терехов молчал как сфинкс. Официальный «Протест по делу Николая Гумилёва», заявленный в 1991 году Генеральным прокурором СССР Н. Трубиным47, уже воспринимался как некий символический акт, ибо возвращение к каким-либо официальным запретам творчества Гумилёва «за контрреволюцию» было теперь невозможно. Завершалась прежняя политическая эпоха, и «тайна гибели Гумилёва» переставала быть, по выражению В. В. Розанова, «жгущимся в обе стороны жупелом» — вместе со всем конфликтом красных и белых. И те и другие с их правдой, неправотой и взаимными грехами становились теперь лишь данностью российской истории.
Но, перестав быть политической необходимостью, раскрытие тайны гибели Гумилёва продолжает оставаться необходимостью нравственной и гражданской. Последний, неотразимый в глазах бывшей коммунистической власти аргумент в защиту Гумилёва, который нашел и о котором молчал, очевидно приберегая его на самый крайний случай, мудрый Г. А. Терехов, позволяет снять «завесу молчания» с самой жуткой и сокровенной завязи «дела ПБО».
Схема юридической «реабилитации» Гумилёва, предложенная в 1987 году Тереховым, буквально повторяет схему юридической реабилитации другого участника ПБО — М. К. Названова, предложенную в 1921 году Яковом Аграновым и В. И. Ульяновым (Лениным).
«По этому же делу, — писал Д. Л. Голинков, — В. И. Ленин рассматривал и ходатайство об освобождении инженера-технолога, консультанта Госплана М. К. Названова, приговоренного Петроградской губчека к расстрелу. Вина Названова заключалась в том, что весной 1921 года он через Н. И. Ястребова свел Таганцева с антисоветской группой «уполномоченных представителей фабрик и заводов г. Петрограда». Ленин, получив прошение отца Названова о смягчении участи сына, а также положительные характеристики о работе Названова со стороны Л. Б. Красина и председателя Госплана Г. М. Кржижановского, выслушав последнего и таким образом убедившись, что Названов «не представляет опасности для Советской власти», потребовал приостановить исполнение приговора Петроградской губчека и рассмотреть вопрос о судьбе Названова на заседании Политбюро ЦК РКП(б), с тем чтобы «отменить приговор Петрогубчека и применить приговор, предложенный Аграновым, то есть два года с допущением условного освобождения»»48.
Дело в отношении Названова изначально построено таким образом, что за его (доказанное) преступление равно законными наказаниями были и смертная казнь (расстрел), и… два года исправительных работ с возможностью условного освобождения. Смертная казнь не понравилась Глебу Максимилиановичу и Леониду Борисовичу — что ж, не будем их расстраивать, приговорим Названова к двум годам исправработ (условно). Такая вот альтернатива.
М. К. Названов осуществлял связь Таганцева с антисоветской группой «уполномоченных представителей фабрик и заводов г. Петрограда» — и получил в итоге два года исправительных работ (условно). Его «подельник», заводской электрик А. С. Векк, «снабдил закупщика организации веревками и солью для обмена на продукты для членов организации» — и был расстрелян49. Деяния вполне сопоставимые (соль в Петрограде эпохи «военного коммунизма» была валютой, имеющей хождение наравне с золотом), а вот приговор…
В постановлении о «красном терроре», принятом Советом Народных Комиссаров 5 сентября 1918 года, было объявлено, «что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». В дореволюционном уголовном праве, понятиями которого (других на тот момент не было) оперировали и деятели Совнаркома, «прикосновенными» считали и «недоносителей». Так что в эпоху «красного террора» (1918–1919 годы) «недонесение» действительно могло караться расстрелом. Однако, как уже говорилось, к концу 1919 года «красный террор» был признан коммунистическим руководством РСФСР «не отвечающим политическому моменту». В «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР», утвержденных Народным комиссариатом юстиции 28 декабря 1919 года, понятие «прикосновенности» к контрреволюционной деятельности в «расстрельных статьях» заменено понятием «пособничество»50.
Прикосновенность не является пособничеством (то есть одним из видов соучастия)! Это разные вещи. В том-то все и дело! Постановление Народного комиссариата юстиции от 28 декабря 1919 года — это создание юридической базы для последующего, уже известного нам январского постановления ВЦИК и Совнаркома о приостановлении «красного террора» (17 января 1920 года), создание юридической базы для грядущего «периода мирного сосуществования систем», для «социализма с человеческим лицом».
В эпоху «военного коммунизма» расстреливали за «прикосновенность». По вступлении в действие «Руководящих начал по уголовному праву РСФСР» расстреливать стали за пособничество (то есть за соучастие). Это уже в пределах общеевропейского правового поля — ведь речь идет о соучастии в террористических актах. «Прикосновенные» же отделывались теперь двумя годами исправработ (вспомним историю с первым судом над Таганцевым — за связь с «Национальным центром»).
Но в процессе установления степени вины преступника между «прикосновенностью» и «соучастием» возникает тончайшая диалектическая связь, основанная на необходимости установления мотивов действий. За одни и те же действия при разной трактовке этих мотивов преступнику можно инкриминировать и прикосновенность, и соучастие! В этом-то и заключается гениально простое и эффективное оружие «цивилизованных» политических репрессий, которым ловко манипулировал Я. С. Агранов.
Для совершенно «цивилизованных» и вполне «правовых» «разборок» коммунистического режима с диссидентствующей интеллигенцией эта дьявольская методика подходила идеально. К чему зверские ужасы «красного террора» и «допросы повышенной степени»? Следователю ВЧК достаточно просто вежливо объяснить подследственному разницу между наказанием за «прикосновенность» и за «соучастие», а потом намекнуть, что чекистам теперь решать, кто «сообщник» террористов, а кто лишь «прикосновенен» к ним…
В 1921 году, в самый разгар мощной трансформации всего политического курса советской власти, в канун объявления нэпа и признания РСФСР Западом, ВЧК отрабатывала новые методики «работы с интеллигенцией». Весной–летом 1921 года Агранов курирует расследование не только «петроградского», но и «себежского» заговоров. И в Себеже, и в Петрограде раскрыты контрреволюционные подпольные организации, руководимые на местах эмиссарами заграничных центров (в Себеже — генерал Ф. И. Балабин, в Петрограде — Ю. П. Герман) и имеющие местный актив, боевые группы и разветвленные конспиративно-явочные структуры, в том числе сеть складов оружия, взрывчатки и антикоммунистической агитационной литературы. И в Себеже, и в Петрограде выявлены большие группы потенциально «прикосновенной» к деятельности этих организаций местной интеллигенции. Именно потому оба этих дела и были выданы Москвой «на откуп» Агранову.
С Себежем, правда, вышел сбой: уже после начатых арестов (в списках выявленных членов организации было 99 человек: учителя, специалисты сельского хозяйства, врачи, кадровые военные, служители культа) неопровержимо выяснилось, что «организация» — голый вымысел местного карьериста Г. К. Павловича, решившего таким образом заручиться поддержкой и «благодарностью» советской власти. Себежские чекисты и московский уполномоченный Р. А. Пиляр проявили принципиальность, предали это гласности… и 11 человек арестованных пришлось срочно выпустить, а провокатора Павловича — вместо «благодарности» — показательно расстрелять51.
Зато в Петрограде все складывалось как нельзя лучше. Здесь в июне 1921 года вовсю разгораются страсти, связанные с обострением традиционного противостояния двух столиц. «Москвичи» — и лично Ленин — публично обвинили «питерцев» в том, что они «прозевали» Кронштадтский мятеж. Амбициозный и обидчивый Зиновьев в ответ в марте 1921 года возводит на пост председателя ПетрогубЧК никому не известного, но преданного (говорили, что он начинал свою «советскую карьеру» то ли лакеем, то ли парикмахером в зиновьевской «свите») Б. А. Семенова, поставив перед ним задачу реабилитировать «Северную коммуну» в глазах Москвы. Впрочем, единственная добродетель Семенова в том, что он готов был выполнить задание «шефа» любой ценой. Никакими другими способностями, включая и интеллектуальные, он, мягко говоря, не блистал. Но для поклонника Макиавелли Агранова он идеальный кандидат на роль универсальной «ширмы».
Семенов действительно оказался образцовой «ширмой»: в то, что творилось в марте–октябре 1921 года во вверенном ему учреждении, он не вникал (в очерке Н. М.Волковысского «Посылающие на расстрел» Семенов рисуется полным тупицей и ничтожеством, не имеющим ни малейшего представления о «таганцевском деле», путающим фамилию Гумилёва и поминутно справляющимся по телефону — очевидно, у «самого» Агранова, — что отвечать представителям «Дома литераторов» и «Дома искусств»52). Однако именно он «озвучивал» все кровавые постановления по «таганцевцам», он зачитал 31 августа 1921 года с трибуны Петросовета «отчет о проделанной работе», содержащий «список расстрелянных», и был в конце концов, как кровавый клоп, с азартным смаком и не без удовольствия раздавлен 15 октября 1921 года лично вождем: «Т. Угланов. Посылаю Вам и Комарову, это секретно. Имейте в виду, что это постановлено до приезда комиссии Каменев + Орджоникидзе + Залуцкий и независимо от нее. Петрогубчека негодна, не на высоте задачи, не умна. Надо найти лучших. С ком. приветом. Ленин»53. Ленинский «ком. привет» т. Угланов Семенову передал: тот подал в отставку и был с позором выставлен из начальничьего кабинета; позже он был посажен и в 30-х годах, как водится, расстрелян.
Но холуйской энергии, доходящей до «административного восторга», летом 1921 года Семенову было не занимать, — и ПетрогубЧК рвется «в дело» в жажде «реванша за Кронштадт». «Для чего, вы думаете, была принесена в жертву питерская гекатомба? — признавался в доверительной беседе гарантировавший Таганцеву благополучный исход В. Р. Менжинский. — Вы, может быть, полагаете, что это необходимо испорченным общим развалом жрецам коммунистического Молоха? Вовсе нет. У нас ведь стерлась всякая разница между возможным и невозможным, а поэтому Гумилёв, Лазаревский, Таганцев, Тихвинский были пущены «в расход», как цинично у нас это называется, только для того, чтобы напугать москвичей»54.
Наученный горьким опытом Себежа, Агранов не торопится с арестами «бенефициантов» главного для него этапа следствия. И только когда со всей очевидностью стало ясно, что группа, созданная Германом и Шведовым, не блеф очередного авантюриста, дождавшись, пока ответственные лица ПетрогубЧК официально отчитаются за проделанную работу (устами все того же Семенова), Агранов мертвой хваткой вцепляется в Таганцева.
С этого момента и подследственные, и даже рядовые питерские чекисты с недоумением и страхом начинают замечать странную, невиданную метаморфозу в проведении следствия и полное смещение акцентов в выборе главных фигурантов дела. Чекисты, уже отрапортовавшие Москве о победном разгроме заговора и уже вычертившие для истории свои отчетные «схемы», где Гумилёв занимал третьестепенное место на глухой периферии, вообще не понимают, зачем персонажей этой «периферии» Агранов вновь и вновь начинает «отрабатывать» с таким пристрастием, только затягивая завершение вполне оконченного дела. С этими «периферийными» интеллигентами и так давно все ясно! Полтора года назад им грозила бы стенка, а в гуманном настоящем максимум, что можно им «предложить», — два года лагерей. Овчинка явно не стоит выделки…
Подследственные же «таганцевцы» — прежде всего вновь прибывающие на Гороховую двое деятелей «профессорской группы» — еще живут старыми представлениями о следственной логике и, стараясь избежать худшего, сами роют себе могилу.
Ведь и Гумилёв не собирался сдаваться без боя и с самого первого допроса выстраивал свою, весьма эффективную в предшествующую эпоху отечественной юриспруденции линию защиты. Он резонно полагал, что наибольшую опасность для него представляет обнаружение чекистами фактов его «контрреволюционной» деятельности — участие в рабочей «волынке», написание текста воззвания, распространение антикоммунистической агитационной литературы и вербовка участников «пятерки». С другой стороны, «контрреволюционные» намерения, какими бы «порочными» в глазах коммунистов они ни были, казались ему неизмеримо менее опасными с точки зрения уголовной ответственности. Ведь «красный террор» кончился, и расстрел теперь угрожает только реальным соучастникам заговорщиков. Так, кстати, рассуждали почти все фигуранты «профессорской группы». Даже близкие к самому Таганцеву люди (и в том числе великий отец-юрист) отнеслись вначале к его аресту достаточно спокойно, ибо знали, что с точки зрения традиционной даже в отношении него «речь шла лишь о возможности двухгодичного заключения. Его виновность ни в чем [конкретном] не была доказана. <…> Двухлетний срок в красном Петрограде всем казался детским, даже апостолу судебной справедливости криминалисту Таганцеву»55.
Отсюда и тактика, избранная Гумилёвым при ответах на вопросы следователя: отрицать все, связанное с какими-либо действиями, и, если не представится возможность отрицать намерения, признавать их, упирая на то, что в настоящее время он давно «предал забвению» крамольные заблуждения, «резко изменил свое отношение к Советской власти» и «чувствует себя по отношению к ней виновным». О степени искренности данных заявлений судить сложно, но то, что они манифестировали бы «чистосердечное раскаяние», которое является, как известно, «смягчающим обстоятельством» при вынесении приговора, не представляет сомнений.
Возможности отрицать намерения после того, как его ознакомили с показаниями Таганцева, Николаю Степановичу не представилось; в остальном же он старается строго придерживаться избранной им линии защиты. И ему это удалось. Во всех материалах «дела» Гумилёв предстает сугубо «страдательной» и пассивной стороной: к нему приходят Герман, «неизвестная дама», Шведов. Он говорит с ними, допуская (к его глубокому нынешнему сожалению) враждебные «по отношению к существующей в России власти» высказывания и соглашаясь («что являлось легкомыслием с моей стороны») осуществить в будущем какие-то «контрреволюционные акции». Ни о каких «волынках» и «пятерках» — ни полслова, а составление и распространение листовок и есть те намерения, которые Гумилёв имел, но не осуществил. При любом другом раскладе, в отсутствие «фактора Агранова», имея такое дело, с таким допросным и доказательным материалом, он переиграл бы следствие и «выбил» бы себе желанный «детский срок» в два года лагерей (а то и отделался бы условным наказанием, благо «высоких покровителей» у него было уж никак не меньше, чем у Названова: Бакаев, Горький, М. Ф. Андреева и Луначарский).
Но Агранов, ставший на те краткие августовские недели, когда решалась судьба «профессорской группы» ПБО, настоящим «серым кардиналом» ПетрогубЧК, вводит новые, неожиданные и неотразимые «правила игры». Согласно этим правилам, сотрудники, расследующие дела участников «профессорской группы», должны установить факт прикосновенности подследственного к заговору и, главное, установить мотивы этой прикосновенности, имея в виду возможность последующей квалификации ее как соучастия (сообщничества).
В этой новой логике избранная Гумилёвым и другими участниками «профессорской группы» линия защиты — дача показаний лишь о намерениях — утратила всякий смысл, более того, своими показаниями они сами затягивали петли на своих шеях.
Действительно, после показаний Гумилёва, что он в разговоре со Шведовым «согласился на выступление», «выразил согласие на написание контрреволюционных стихов», спорил с «Вячеславским» относительно лучшего «пути, по которому совершается переворот», и итогового признания в том, что он «готов принять участие в восстании, если бы оно перекинулось в Петроград, и вел по этому поводу разговоры с Вячеславским», дополненного свидетельством Таганцева о «предложении» Гумилёва Герману «устроить активное выступление в Петрограде» еще в ноябре 1920 года — вопрос о «прикосновенности» Гумилёва к заговору решался сам собой. Более того, такие показания почти решали и вторую задачу: Гумилёв не только знал о заговоре и «не донес», но и мотивы этого «недонесения», как он сам показал, не ограничивались только субъективно-нравственными и личностными проблемами, вроде «офицерской чести» или «политической наивности». Предприятию Германа и Шведова он, судя по сказанному, несомненно, сочувствовал и заботился о его успешной реализации. А это и значит, что «прикосновенность» без всяких противоречий, путем истолкования мотивов, квалифицируется как «соучастие».
Дело оставалось за уликами, подтверждающими правоту мотивации следователя, настаивающего на изменении степени виновности Гумилёва, а не сам факт его участия в заговоре и не конкретизирующих специфику этого участия.
Над доказательной базой, собранной в «деле Гумилёва», над теми документами, которые были опознаны следователями как улики, принято смеяться. И действительно, всякий привыкший к традиционной логике криминального делопроизводства человек вправе надеяться увидеть в «шагреневых переплетах» «дела ¹ 214224» хотя бы антибольшевистскую прокламацию, написанную рукой Гумилёва, или свидетельские показания работниц Трубного завода, рассказывающих о зажигательных выступлениях поэта и описывающих его маскарадный «пролетарский» костюм, или показания завсегдатаев Дома литераторов о странных вечерних собраниях на квартире поэта. Но ничего подобного там нет. «Почему не были опрошены его близкие, его мать, его жена, его друзья, люди, с которыми он встречался в последние дни перед арестом?» — недоумевает первый независимый «читатель» «дела» С. П. Лукницкий56. «Странное» впечатление производят 107 листов «дела» и на О. Хлебникова, которого С. П. Лукницкий ознакомил с результатами своей архивной работы сразу же, «по горячим следам»: «Чего только нет в «деле Гумилёва»! И приглашение участвовать в поэтическом вечере к нему подшито, и членский билет Дома искусств на 1920 год, и интимные записки со стершимся карандашным текстом… <…> Начиная с листа ¹ 31 — подшитые к делу записки различных литераторов Гумилёву с просьбой о встрече, клочки бумаги, на которых поэт что-то помечал для памяти. Оказалась в деле и трогательная записка жены на смятой папиросной бумаге:
Лист ¹ 48.
«Дорогой Котик, конфет, ветчины не купила, ешь колбасу, не сердись. Кушай больше, в кухне хлеб, каша, пей все молоко, ешь булки. Ты не ешь, и все приходится бросать, это ужасно.
Целую. Твоя Аня»»57.
«Улики», конечно, странные. Но только на первый взгляд.
Агранов был психологом, циником и прагматиком. Относительно способности и, главное, воли «кабинетных ученых» к активной подпольной борьбе он не заблуждался и, окажись на месте Голубя-Германа, Агранов также не доверил бы «романтикам» даже «сбор мнений». В том, что дальше «болтовни» какой-нибудь «гнилой интеллигент» в конспиративной работе не пойдет, он был убежден изначально, еще до того, как «дал отмашку» на аресты «профессорской группы». Эту «болтовню» он хотел «материализовать» во что-то более весомое, в этом и заключалась поставленная им перед его сотрудниками задача. Если бы он хоть на долю секунды заподозрил кого-нибудь из своих «подопечных» в способности перейти от слов к серьезному делу, то, можно не сомневаться, питерские чекисты рыли бы землю носом, пролистали бы в поисках «прокламации» полистно и последовательно не только книги библиотеки Гумилёва, но и всего хранилища петербургской публичной библиотеки, а все цитируемые нами мемуаристы диктовали бы свои воспоминания не «на берегах Сены», а гораздо раньше — «на берегах Невы», в аскетическом кабинете на Гороховой, 2, под строгим и внимательным взглядом лично Якова Сауловича.
Но Агранов в «конспиративную способность» Гумилёва не верил и поэтому дал своим людям, осуществлявшим поиск улик, указание не связываться с обеспечением доказательной базы для выявления подробностей этой стороны деятельности поэта. Необходимо было обеспечить другую доказательную базу — для подтверждения активного сочувствия Гумилёва целям заговорщиков, и эта цель была чекистами достигнута (иронизирование над безграмотностью отчетов аграновских агентов неуместна: да, они допускали орфографические ошибки, но их шеф прекрасно знал не только правила грамматики, но еще и многие другие правила).
Материалы, собранные в «шагреневых переплетах» Гумилёвского «дела», — если отнестись к ним серьезно (а они действительно того заслуживают), помимо обязательных формальных бумаг — ордеров, анкет, собственно протоколов допросов, — четко делятся на две категории.
Первая категория связана с отработкой круга общения поэта в последние месяцы перед арестом. Здесь мы находим многочисленные листы с адресами и номерами телефонов, записки Гумилёву, списки фамилий литераторов, сделанные его рукой (это документы, связанные с работой во «Всемирной литературе»). Смысл присутствия в деле такой документации понятен, особенно если учесть принципиальную «забывчивость» подследственного на конкретные имена. Есть и другая, «дальняя» цель в собирании этой «коллекции имен»: в случае удачи и признания Гумилёва «соучастником» ПБО упомянутые в его деле люди могут стать новыми «фигурантами» «дела» — при помощи той же самой игры с диалектикой «прикосновенности/соучастия» «профессорская группа» ПБО могла, теоретически, «распространяться» до бесконечности, по методу «карточного домика» (что, в общем, потом и случилось).
Вторая категория гораздо интереснее: по ней мы можем судить, какую решающую «улику» выделил Агранов, анализируя показания Таганцева, для обеспечения неотразимой доказательности того, что «прикосновенность» Гумилёва к заговору является по мотивам не «прикосновенностью», а «соучастием». Эта улика — упомянутые Таганцевым 200 000 рублей, переданные Шведовым Гумилёву.
Заметим, денег при обыске у Гумилёва не нашли. Согласно отдельно приложенной на л. 13 «дела» «Талона квитанции» за ¹ 6413, «денег советских» в комнате поэта было обнаружено 16 000 р., а также «старинных монет» — 1 зол. 48 унций. Но Таганцев показал, что «на расходы Гумилёву было выделено 200 000 советских рублей», и Гумилёв это подтвердил, очевидно считая факт получения и хранения денег (а не траты — ведь он же взял их «на всякий случай и держал их в столе, ожидая или событий, то есть восстания в городе, или прихода Вячеславского, чтобы вернуть их») достаточно «безобидным» (ведь за хранение денег «Национального Центра» Таганцев получил все ту же фатальную «двушку»).
Делать этого ему было ни в коем случае нельзя! Это был «прокол», за который и ухватился Агранов.
Хранение «подпольных» денег и денежное вспомоществование подпольщикам активной формой борьбы не являлись и еще с дореволюционных времен считались «традиционной» для либеральной интеллигенции формой «участия в деле освобождения России» (тогда, правда, «от проклятого царизма»). Но в отличие от времен царской сатрапии, когда денежные дела с революционерами (вспомним Савву Морозова) практически ничем не грозили, в правовой ситуации, сложившейся в РСФСР к лету 1921 года, такое «пассивное содействие» было смертельно опасным, в какой-то мере даже более опасным, чем содействие активное.
В постановлении ВЦИК и Совнаркома от 17 января 1920 года, положившем конец «красному террору», специально оговаривалось «возвращение к методам террора» в случае «возобновления Антантой попыток путем вооруженного вмешательства или материальной поддержкой мятежных царских генералов вновь нарушить устойчивое положение Советской власти». Поскольку Шведов — эмиссар Парижа, приехавший в РСФСР по поручению врангелевского «Союза освобождения России» с деньгами Торгово-промышленного комитета, то любые его финансовые контакты — это именно та ситуация, при которой ВЦИК и Совнарком оставляют органам безопасности (и всем силовым структурам РСФСР) право не считаться с нынешними «гуманными» постановлениями и продолжать следовать методам «красного террора» — то есть расстреливать и за «прикосновенность». Таким образом, признав, что взял деньги от Шведова, Гумилёв тем самым признал свое участие в распределении >«материальной помощи Антанты», нарушающей «устойчивое положение Советской власти», и тем самым поставил себя «вне закона». При этом дальнейшая судьба самих денег (и даже хранились ли они в его столе или нет) на выводы следствия и приговор не влияла.
А Гумилёв к тому же признал, что получил от Шведова не просто деньги, но «деньги на расходы, связанные с выступлением».
Взять» деньги можно по-разному. Можно, например, «взять» деньги на хранение у доброго знакомого, не зная, кто он такой в «конспиративном» плане и откуда у него эти деньги (а может быть, только смутно подозревая «нечто»). И так и заявить на следствии (что, по всей вероятности, сделал Таганцев, обвиненный в хранении денег «Национального центра»). В таком случае, даже если передавший деньги был самим воплощением зверской души мирового капитала и исчадием империалистического ада, иначе как «прикосновенность» обвиняемому не инкриминировать — за утрату бдительности.
Гумилёв же сам признал, что деньги передавали ему не на хранение, а в личное распоряжение и на конкретные «контрреволюционные» цели. Это последний, недостающий Агранову «штрих», завершающий созданное им «художественное полотно» Гумилёвского «дела», последняя, удушающая жертву нить сотканной чудовищной паутины. И поэтому необходимо, чтобы «ключевое» признание было документально подтверждено. Желательно также подтвердить и то, что это признание не было самооговором (а показания Таганцева — клеветой), чтобы осознавший, в какую ловушку он сам себя загнал, подследственный не взял свои показания назад. Ведь сами-то деньги не обнаружены!
Несомненно, именно с этой целью и попали в «дело» те два весьма колоритных документа — уже приведенная записка А. Н. Гумилёвой «котику» и расписка М. С. Шагинян в получении 27 июля 1921 года от Гумилёва ссуды в 50 тысяч рублей. Что касается записки, то смысл приобщения этого трогательного послания к «делу» (что всегда вызывало особое недоумение исследователей) лежит на поверхности. В любой момент следователь мог предъявить неопровержимый документ, что «котик» не бедствовал: живущий в крайности человек не будет «бросать» продукты питания, как бы дурно они ни были приготовлены. Значит, деньги были. Расписка же свидетельствует о том, что Гумилёв не только имел деньги, но и мог ими распоряжаться по своему усмотрению.
«Получение денег от организации на технические надобности» станет «финальным аккордом» и расстрельного «Заключения» по «делу Гумилёва», и послерасстрельного «перечня» его преступлений в «списке» казненных «таганцевцев». Признание Гумилёва в хранении «денег Антанты», подкрепленное документально, позволяет Агранову сделать из Гумилёва «соучастника» заговора, даже если бы больше ни о каких его «проступках» (пассивных или активных) известно не было.
Какую бы сумму тот ни получил.
Кстати, о «сумме».
Во многих работах о «таганцевском заговоре» принято особо обращать внимание читателей, что Гумилёв получил от Шведова какой-то мизер. Это, как правило, использовалось потом в качестве аргумента в подтверждение расхожего вывода о «несерьезности» ПБО. Подобное же утверждение содержится и в книге В. К. Лукницкой, где комментируется имеющаяся в «деле» расписка М. С. Шагинян: «Для каких нужд М. Шагинян взяла у Гумилёва «заговорщицкие» деньги? Может быть, на картошку, а может быть, на 10 почтовых марок (почтовая марка стоила в то время 5000 рублей, по теперешним меркам 200 000 — это 2 рубля)»58.
Менее всего хотелось бы спорить с В. К. и С. П. Лукницкими, совершившими подвиг, исполнив завещание мужа и отца и опубликовавшими «дело Гумилёва», но представить себе Гумилёва, ссужающего Мариэтте Шагинян сумму на покупку десяти почтовых марок, да еще требующего… расписку в получении денег, невозможно. И какими глазами смотрел бы он при этом на Шагинян? Николай Степанович действительно был бережлив, иногда даже прижимист, но в маниакальной скупости он никогда замечен не был (равно как и Мариэтта Сергеевна, насколько можно судить по воспоминаниям современников, не была в 1921 году столь продувной девицей, что вести с ней даже копеечные расчеты можно было только прибегая к посредству расписок). Очевидно, здесь какая-то путаница, ведь курс советских денег (и, соответственно, цена почтовых знаков) менялся в годы Гражданской войны многократно и стремительно. Между тем в самой книге В. К. Лукницкой среди материалов «дела Гумилёва» приводится список продуктов, закупленных им для обитателей Дома искусств летом 1921 года, во время поездки на юг и в Москву (в поезде адмирала Нимитца). Тут же приводятся потраченные суммы. Согласно этому списку, 20 фунтов сахара (8 кг 190 г) стоили тогда 210 рублей, 4 фунта риса (1 кг 630 г) — 20 рублей, 6 фунтов гречневой крупы (2 кг 450 г) — 30 рублей59. Сообразуясь с нынешними ценами на те же продукты и, разумеется, сделав большие допуски на иную ценовую ситуацию в целом в стране и разницу цен в Петрограде, Москве и на Юге, каждый может сам произвести подсчеты и найти современный эквивалент. По моим расчетам (на которых, впрочем, не настаиваю), Гумилёв получил от Шведова сумму, колеблющуюся (в твердой валюте) от тысячи до двух тысяч долларов, вполне достаточную, чтобы оплатить с надбавкой «за риск» услуги гектографиста (как то планировалось вначале), закупить «агитационную водку» и оставить себе на расходы и «материальное поощрение» членов «пятерки». Тогда, заметим, и Мариэтта Шагинян просит в долг у Гумилёва под расписку не горемычные пятьдесят копеек, а около 200–300 долларов — сумму, для долга вполне «благородную» и именно такую, при передаче которой можно смело требовать расписку, не боясь затем прослыть в кругах Дома искусств жмотом, а то и психом.
Но сумма «контрреволюционных денег» для исхода дела значения не имела. Даже если бы Гумилёв действительно получил из рук Шведова два рубля и отдал бы затем Шагинян под расписку пятьдесят копеек, а на следствии признался только лишь в том, что знал о членстве Шведова в подпольной организации, а расписка оказалась бы единственной приобщенной к «делу» уликой, это уже расстрел:
—Гумилёв общался со Шведовым и, зная, кто такой «Вячеславцев», не донес на него в органы госбезопасности: налицо факт прикосновенности Гумилёва к преступлению Шведова (организация заговора против советской власти); — недонесение Гумилёва мотивировано не только субъективно-нравственными причинами, — ведь контакт поэта с заговорщиком не ограничился только общением, но имел последствия: Гумилёв вступил с заговорщиком в финансовые отношения, получил от него свободные средства для использования по усмотрению. Документ, подтверждающий это, имеется. Следовательно, преступное деяние Гумилёва (сокрытие от властей контакта с заведомым преступником) мотивировано личным интересом поэта в преступной деятельности Шведова, а это уже соучастие.
И… все.
Характерно, что, «отработав» сам факт получения Гумилёвым «денег от организации на технические надобности», Агранов даже не пытается выяснить, куда, собственно, эти деньги делись. Гумилёв показал, что положил 200 000 рублей в стол и стал ждать либо восстания, либо нового визита Шведова. Ни того ни другого не последовало, и Гумилёв «предал дело забвению». «Заговорщицкие деньги» тогда вроде бы должны были мирно покоиться в столе поэта, но при обыске там было найдено всего 16 000 рублей. В «деле Гумилёва» никаких объяснений этой очевидной «странности» нет. Почему не вдавался в подробности сам Гумилёв — понятно: И. В. Одоевцева, случайно увидевшая в ящике стола эти пачки рублей и рассказавшая об этом эпизоде в своих воспоминаниях, добавляет, что деньги Гумилёв раздавал потом членам своей «пятерки»60. Но почему Агранов даже не спросил?..
А его это уже не интересовало. Его вообще уже ничего не интересовало: ведь другие «преступные деяния» Гумилёва никак следствием не отрабатывались. В «Заключении» по «делу» просто переписаны соответствующие места из показаний Таганцева и Гумилёва. Между тем даже простое сопоставление этих показаний могло существенно уяснить степень истинного участия поэта в деятельности ПБО — чего стоил хотя бы «сюжет» с «лентой для гектографа» вместо «ленты для пишущей машинки». Неужели чекисты не понимали разницы между пишущей машинкой и гектографом, коль скоро речь идет (и Гумилёв это не скрывает) о листовках?!
Конечно, понимали. Но все равно переписывали со слов Таганцева: «На расходы Гумилёву было выдано 200 000 рублей советскими деньгами и лента для пишущей машинки» (эта дурацкая «лента для пишущей машинки», перекочевавшая затем и в «список расстрелянных», стала поводом для недоуменных размышлений многих исследователей). Ведь после подтверждения факта передачи денег все другие обвинения против поэта не играли никакой качественной роли. Доказанный факт получения денег на технические надобности в сочетании с признанием Гумилёва в контактах с «контрреволюцией» обеспечивает следователю ВЧК полное право требовать для подследственного смертного приговора «за соучастие». Именно следователю, а не прокурору — ведь в Петрограде действует военное и осадное положение и суда не будет.
Впрочем, если бы обещанный Таганцеву «открытый процесс» и состоялся, результат был бы тот же самый, разве что оперативникам все-таки пришлось бы действительно позаботиться о доказательствах (что было совсем нетрудно). «Московские процессы», например, на которых по апробированной в 1921 году в Петрограде схеме «прикосновенили в соучастие» всех сталинских политических противников, превращая их в одночасье из членов ЦК во вредительско-террористическую «помесь лисицы и свиньи», были вполне открытыми. И что? Аграновский молох переварил всех, все покаялись (чистосердечно) и были расстреляны как соучастники всевозможных террористических групп (а не как партийные оппозиционеры!). А Запад и не пикнул!
Агранов меньше всего стремился установить истину в отношении подлинного облика «контрреволюционера Гумилёва» (как, впрочем, и в отношении всех участников «профессорской группы»). Допытываться, чье пальто тот использовал, «маскируясь» под рабочего на Трубочном, и какого цвета были чернила, которыми был написан «черновик кронштадтской прокламации», было Якову Сауловичу и скучно, и… некогда. В том, что опасность для советской власти, исходящая от Гумилёва-заговорщика (и от всех арестованных петроградских интеллигентов), мягко говоря, невелика, Агранов был совершенно уверен еще до приезда в Петроград, а подробности значения не имели. Более того, именно в данном деле заботиться о безопасности РСФСР и ее властей Агранов вообще целиком предоставил семеновским головорезам, гонявшимся за головорезами из боевой группы ПБО и, кстати, к моменту его активного «старта» в «деле» уже почти всех посадившим (или перестрелявшим). У Агранова совершенно иная, особая миссия.
Летом 1921 года Агранов по заданию партии «обкатывал» механизм правового и нравственного подавления личности. Масштаб был, как и полагается для обкатки, скромным, можно сказать, крошечным — всего чуть более восьмисот человек (именно столько людей, так или иначе, проходили по «делу ПБО»). Но сам механизм оказался весьма перспективным и пригодился уже в ближайшем историческом будущем. После «таганцевского дела» именно Агранов по поручению Кремля становится главным архитектором «дела ЦК партии эсеров» (1922), «троцкистского заговора» (1929), «дела Ленинградского террористического центра» (так называемое «убийство Кирова», декабрь 1934 года), а в 1936 году, уже в качестве комиссара государственной безопасности СССР и работника личного секретариата Сталина, — одним из руководителей «московских процессов»61. В зиновьевско-каменевском «московском процессе» Агранов отвечал за самое важное «дело» — «дело Зиновьева», и подготовил его так, что даже Р. Конквист не удержался и особо отметил профессионализм Агранова62 — а там, как известно, жертвы исчислялись уже десятками тысяч и последствия, политические и социальные, имели иной масштаб.
По свидетельству Л. В. Бермана, встречавшегося с Аграновым «в служебной обстановке» спустя два года после «таганцевской эпопеи», когда запущенный в 1921 году процесс уже вовсю «пошел» и Яков Саулович готовил очередную «матрицу» «дела ПБО» — «дело эсеров», на случайно вырвавшийся у собеседника вопрос: «Почему так жестоко покарали участников «дела Таганцева»?» — Агранов спокойно ответил: «В 1921 году 70 процентов петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны были эту ногу ожечь!»63
Вот это и есть «масштаб» и «уровень» Агранова: не отдельные люди, а минимум социальные группы. В 1921 году контроль советских властных структур над фрондирующим Петроградом был ослаблен. «Таганцевское дело» должно было стать инструментом воздействия на петроградскую интеллигенцию. Для этого Агранов и ехал в Петроград в мае 1921 года, а вовсе не для «шефской помощи» ПетрогубЧК в расследовании какого-то очередного заговора.
«Это был процесс, в свое время ошеломивший нас всех, — писала одна из современниц «таганцевцев». — Скольких жертв знали мы с мужем близко и сами были чудом спасены… <…> Аресты подготовлялись с изысканной ложью и особым зверством. За много месяцев росло чувство надвигающейся трагедии…»64 Описания жуткого, безумного страха, охватившего всех и вся после того, как «расстрельные списки» были утром 1 сентября 1921 года расклеены на всех городских перекрестках, мы находим во всех без исключения мемуарах. Этот страх был качественно новым по отношению даже к кошмарам минувшей эпохи «военного коммунизма», которые все-таки могли восприниматься как издержки Гражданской войны, как «временные трудности»… Теперь стало ясно: «трудности» оказались — по крайней мере, для всего «поколения таганцевцев» — пожизненными.
Ведь практически вся питерская интеллигенция тех лет в той или иной степени была недовольна коммунистическим режимом и «повязана» фрондой 1921 года. И практически все знали новоявленных «декабристов» — Таганцева и его «профессоров», сочувствовали им, а те были «преобразованы» вовсе не в «декабристов», а в террористов, и «показательно расстреляны» вместе с боевиками ПБО. И теперь следователям ЧК решать, кто «сообщник» терроризма, а кто лишь «прикосновенен» к нему, решать, так сказать, «кто следующий» в «профессорскую группу».
Создав «на базе» ПБО «профессорскую группу», Агранов сумел подложить «скелет» в «шкаф» каждой петербургской интеллигентской квартиры, обитатели которой так или иначе были причастны в начале 20-х годов к жизни Дома литераторов и Дома искусств, вращались в университетских и академических кругах. По новым, аграновским правилам игры почти все мало-мальски заметные питерские интеллигенты в одночасье стали «прикосновенны».
«В Петербурге <…> мания видеть во всех стукачей достигла самого высокого уровня», — вспоминала свой визит в Петроград в 1922 году Н. Я. Мандельштам65. Агранов выполнил поставленную перед ним задачу. С 1921 года и до того момента, пока в ней доминировали представители «поколения таганцевцев», петроградская интеллигенция была вполне управляема.
Эффективность «таганцевской методики» вдохновляла на попытку сделать все общество жестко управляемым. Ведь у каждой из этих социальных групп — партийных, хозяйственных, аграрных, военных и т.д. — должна была быть своя ПБО с соответствующей «профессорской» («партийной», «директорской», «крестьянской», «военной») группой…
По замыслу Агранова, Гумилёв должен был быть расстрелянным в одном строю с боевиками ПБО и стать для «петроградской интеллигенции» одним из самых ярких и убедительных примеров того, что, «невзирая на чины и лица», любая, даже самая незначительная (и даже чем «незначительнее», тем лучше!), прикосновенность кого бы то ни было к любому сомнительному с точки зрения советской власти сообществу может быть юридически истолкована как соучастие в терроризме и наказана самым страшным (чем «страшнее», тем лучше, контраст впечатляет!) образом.
«Дело «профессорской группы»» ПБО развивалось стремительно: с момента первых арестов (первые числа августа) до расстрела прошло меньше месяца. Этот «спринтерский темп», эта внезапность действовали ошеломляюще, деморализуя не только подследственных, но и их высоких покровителей. Ведь, помимо Гумилёва, речь шла о самых видных представителях научных и общественных кругов северной столицы: Лазаревский — ректор Петербургского университета, Ухтомский — ведущий научный сотрудник Русского музея, Тихвинский — управляющий лабораториями Главного нефтяного комитета ВСНХ. Сенатор Таганцев, отец Владимира Николаевича, вообще знал Ленина еще в университетские годы вождя.
В числе «высоких заступников» Гумилёва постоянно называют М. Горького и И. П. Бакаева. Участие первого в судьбе поэта несомненно и подтверждено документально. Об участии второго мы можем судить на уровне «чекистских легенд», но таких, объективная близость которых к достоверно известному историческому контексту настолько высока, что просто проигнорировать их невозможно. Судя по всему, и тот и другой все-таки успели даже и в такой короткий срок, который понадобился Агранову, чтобы «раскрутить» «дело «профессорской группы»», дойти до самых верхов, ходатайствуя о смягчении наказания великому поэту, об отмене смертной казни.
Горький, как, впрочем, и все его окружение по «Всемирной литературе», степени опасности происходящего поначалу не оценил и привычным уже манером (задержания и аресты в этой среде стали к лету 1921 года делом настолько частым, что и горьковская реакция на них превратилась в бюрократическую рутину) надиктовал «всемирной» машинистке: «Августа 5-го дня 1921. В Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией (Гороховая, 2). По дошедшим до издательства «Всемирная литература» сведениям, сотрудник его, Николай Степанович Гумилёв, в ночь на 4 августа 1921 года был арестован. Принимая во внимание, что означенный Гумилёв является ответственным работником в издательстве «Всемирная литература» и имеет на руках неоконченные заказы, редакционная коллегия просит о скорейшем расследовании дела и при отсутствии инкриминируемых данных освобождения Н. С. Гумилёва от ареста. Председатель редакционной коллегии…»66 Через некоторое (вероятно, очень небольшое) время Горький и «всемирники», осознав, что дело начинает принимать дурной оборот, отправляют уже в Президиум Петроградской губернской Чрезвычайной Комиссии бумагу-поручительство за подписями как самого председателя «Всемирной литературы» (Горького), так и «председателя Петроградского отдела Всероссийского Союза писателей» (Волынского), «товарища председателя Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов» (Лозинского), «председателя коллегии по управлению Домом литераторов» (Б. И. Харитона), «председателя пролеткульта» (А. И. Маширова (Самобытника)): «Ввиду деятельного участия Н. С. Гумилёва во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы нижепоименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н. С. Гумилёва под их поручительство»67.
Затем Горький переполошился и, уже не прибегая к посредничеству официальной переписки, лично связался с Дзержинским. Шеф ВЧК охотно ознакомил великого пролетарского писателя с обстоятельствами дела (соучастие в терроризме, вредительстве, поджогах, покушениях на убийство, взрывах памятников и т.д.) и намекнул, что в каждом «деле» «сообщников террористов» изобильно упоминается имя самого Горького68. Это был, что называется, «тонкий намек на толстые обстоятельства»: ведь Горький, по существу, стал первым из планируемых Аграновым «последующих фигурантов», первым, кого должен был задеть «правовой резонанс» «дела ПБО», кого должно было «ожечь». Похоже, Агранов ехал в Петроград с особым пожеланием руководства ВЧК «оздоровить атмосферу» вокруг Горького, надоевшего и Дзержинскому, и Ленину своими бесконечными ходатайствами. Еще до беседы с Дзержинским — 9 августа 1921 года — Горький получил ленинское послание: «А у Вас кровохарканье, и Вы не едете <за границу>!! Это ей-же-ей и бессовестно, и нерационально. В Европе, в хорошем санатории будете и лечиться, и втрое больше дела делать. Ей-ей. А у нас ни лечения, ни дела — одна суетня. Зряшняя с у е т н я.Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас. Ваш Ленин»69.
Но Горький упорно не хотел лечиться и продолжал упорствовать в «зряшней суетне». И дрался за Гумилёва буквально до самого конца. В самый последний момент он связывается с М. Ф. Андреевой.
Счет идет на часы. По воспоминаниям секретаря Луначарского А. Э. Колбановского, «однажды в конце августа 1921 года около четырех часов ночи раздался звонок. Я пошел открывать дверь и услышал женский голос, просивший срочно впустить к Луначарскому. Это оказалась известная всем член партии большевиков, бывшая до революции женой Горького, бывшая актриса МХТ Мария Федоровна Андреева. Она просила срочно разбудить Анатолия Васильевича. Я попытался возражать, так как была глубокая ночь и Луначарский спал. Но она настояла на своем. Когда Луначарский проснулся и, конечно, ее узнал, она попросила немедленно позвонить Ленину. «Медлить нельзя. Надо спасать Гумилёва. Это большой и талантливый поэт. Дзержинский подписал приказ о расстреле целой группы, в которую входит и Гумилёв. Только Ленин может отменить его расстрел».
Андреева была так взволнована и так настаивала, что Луначарский наконец согласился позвонить Ленину даже и в такой час.
Когда Ленин взял трубку, Луначарский рассказал ему все, что только что услышал от Андреевой. Ленин некоторое время молчал, потом произнес: «Мы не можем целовать руку, поднятую против нас», — и положил трубку.
Луначарский передал ответ Ленина Андреевой в моем присутствии»70.
После расстрела «таганцевцев» Горький внял наконец советам Ильича и уехал за границу на лечение.
В отличие от Горького, Иван Петрович Бакаев накоротке к Ленину вхож не был. Зато он был достаточно близок к Дзержинскому. Бакаев был третьим после Урицкого и В. Н. Яковлевой председателем ПетрогубЧК (в 1919–1920 годах). Именно он руководил «красным террором» в Петрограде и получил за это звание «Почетный чекист». В жизни это был редкий тип революционера, берущий свое начало от Сен-Жюста, — убежденный в своей правоте — правоте революции — фанатик-идеалист, гуманист и бессребреник, готовый во имя блага человечества в целом пролить кровь каждого из «человеков» в отдельности. Таковым слыл и «Железный Феликс». Бакаев захаживал к Горькому, лично был знаком (вне круга служебной деятельности, разумеется) со многими петроградскими литераторами. Он был самоучкой, но знал и любил литературу и искусство, был очень интересным собеседником, способным очаровать даже такого требовательного интеллектуала, как В. Ф. Ходасевич: «В конце ужина, с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек в ловко сидевшей на нем гимнастерке. Он наговорил мне кучу лестных вещей и цитировал наизусть мои стихи. Мы расстались друзьями. На другой день я узнал, что это Бакаев»71. Сближению Бакаева с Горьким в конце 1920 — начале 1921 года немало способствовало то, что Бакаев, как и Горький, был врагом Зиновьева, который целенаправленно оттеснял его с руководящих постов, проводя на них своих людей. После Кронштадта давление Зиновьева стало открыто оскорбительным, и Бакаев перешел к настоящей конфронтации с председателем «Северной коммуны». Эта вражда, несомненно, ежедневно подогревалась весной–летом 1921 года созерцанием идиота Семенова, пребывающего по воле Зиновьева в председательском кресле ПетрогубЧК. Именно несомненная «оппозиционность» Бакаева руководству ПетрогубЧК во время следствия над «таганцевцами» и заставляет со вниманием относиться к рассказам о его заступничестве за Гумилёва. Помимо безусловного литературного вкуса, вполне могло иметь место и оскорбленное самолюбие обиженного профессионала, который не смог стерпеть, видя, как какой-то мальчишка-москвич (Агранов был моложе Бакаева на шесть лет) под носом у безгласного Семенова творит черт-те что. Бакаев вмешивался в ход следствия над Гумилёвым, «почетный чекист» был единственным в ПетрогубЧК, кто мог себе это позволить72. Затем, по воспоминаниям В. Сержа (не упоминающего Бакаева по имени, но иных имен в связи с этим легендарным эпизодом в мемуаристике просто нет; с другой стороны, кроме бывшего председателя ПетрогубЧК и героя «красного террора» на такой шаг в тех кругах никто бы тогда не решился), он «поехал в Москву, чтобы задать Дзержинскому вопрос: «Можно ли расстреливать одного из двух или трех величайших поэтов России?» Дзержинский ответил: «Можем ли мы, расстреливая других, сделать исключение для поэта?»»73
Итак, обе «высшие инстанции» в «деле Гумилёва» оказались непосредственно проинформированы авторитетными в глазах Ленина и Дзержинского людьми о том, что в Петрограде готовится расстрел «одного из двух или трех величайших поэтов России». И Горький, и Бакаев готовы были поручиться за Гумилёва. Ходатайство от «Всемирной литературы» уже лежит в папке ВЧК.
Но ведь это та же самая ситуация, что и с Названовым, за которого в то же самое время, что и за Гумилёва, просили Кржижановский и Красин, а на поруки, как «незаменимого спеца», брал Госплан! Причем Названов все-таки реально «наследил» в «деле ПБО», а Гумилёв смог скрыть все уличающие его факты. Обвинения против Гумилёва, как они сформулированы в деле, целиком зависят от субъективной трактовки мотивов его действий. «Вынести» их «за скобки», даже не вдаваясь в подробности (как это было сделано с названовскими обвинениями), Ленину вообще ничего не стоит, надо лишь признать, что Гумилёв совершал проступки не потому, что был внутренне «явным врагом народа и рабоче-крестьянской революции», а просто потому, что «предрассудки дворянской офицерской чести… не позволили ему пойти «с доносом»». Об этом и говорил в 1987 году Г. А. Терехов, тем самым предъявляя прецедент реабилитации по точно такому же делу, созданный в 1921 году самим Лениным!
И Ленин, и Дзержинский отвечают Горькому и Бакаеву чеканными афоризмами. Значит ли это, что они и являются главными убийцами поэта?
Все не так просто.
Получив просьбы Кржижановского и Красина о помиловании Названова, Ленин советуется с Аграновым. И в случае с Гумилёвым он наверняка с Аграновым связался. Ведь Ленин не испытывал никакой личной вражды к Гумилёву, больше того — он его, если судить по ленинской библиотеке, почти не знал (Ленин вообще не любил современной ему литературы «за декаданс» и знал ее, в отличие от русской классики XIX века, очень плохо). В сугубо «технические подробности» «таганцевского дела» Ленин, естественно, не вдавался. Горький дает Гумилёву отличную рекомендацию «как спецу» — значит, надо справиться у того, кто за это дело отвечает… Но даже если Ленин и Дзержинский и составили загодя, еще до обращений Горького и Бакаева, стойкое убеждение в том, что Гумилёва надо непременно расстрелять, то ведь информацию, на основании которой они могли это заключение сделать, поставлял им опять-таки Агранов. Он, и только он был личным представителем Ленина и Дзержинского в июле–августе 1921 года в ПетрогубЧК, их «глазами и ушами».
Агранов никогда бы не «упустил» Гумилёва, даже если бы ему пришлось «костьми лечь», опровергая перед начальством и Горького, и Бакаева, и Луначарского, и Андрееву, и… кого угодно.
Ленину стоило только намекнуть о Названове, и Агранов — тут как тут! — предлагает «двухлетнюю альтернативу» расстрелу. Но ведь Названов и есть Названов.
Расстрелять его или отпустить — не стал бы Агранов из-за этого спорить не только с Кржижановским и Красиным, но даже, пожалуй, и… с Семеновым (благо дюжину-другую названовых найти несложно).
Совсем другое дело — Гумилёв.
Значение Гумилёва для России Агранов понимал не хуже Горького. И лучше всех эстетов Дома литераторов и Дома искусств.
Все мемуаристы упоминают упорно ходившие тогда по городу слухи о том, что допросы Гумилёва ведет какой-то необыкновенный, гениальный следователь. В. И. Немирович-Данченко называет его «правоведом» и замечает, что он выгодно отличался от обычных чекистских «эскимосов»74. Г. В. Иванов рассказывает о чудо-следователе куда более подробно, ибо ему посчастливилось получить информацию от «чекиста Дзержиба-шева», которого Иванов называет «следователем чека по отделу спекуляции». По всей вероятности, Иванов имеет в виду Терентия Дмитриевича Дерибаса, фамилия которого в сознании Иванова со временем, по вполне понятным причинам, получила соответствующие фонетические дополнения. Т. Д. Дерибас в 1921 году действительно часто бывал в Петрограде, ибо курировал «кронштадтские дела»; в чекистских кругах он был весьма влиятелен и вскоре стал работником Секретного отдела ВЧК. Вот что рассказывает Иванов:
«Допросы Гумилёва более походили на диспуты, где обсуждались самые разнообразные вопросы — от «Принца» Макиавелли до «красоты Православия». Следователь Якобсон, ведший «таганцевское дело», был, по словам Дзержибашева, настоящим инквизитором, соединявшим ум и блестящее образование с убежденностью маниака. Более опасного следователя нельзя было выбрать, чтобы подвести под расстрел Гумилёва. Если бы следователь испытывал его мужество или честь, он бы, конечно, ничего от Гумилёва не добился. Но Якобсон Гумилёва чаровал и льстил ему. Называл его лучшим русским поэтом, читал наизусть Гумилёвские стихи, изощренно спорил с Гумилёвым и потом уступал в споре, сдаваясь или притворяясь, что сдался перед умственным превосходством противника…
Я уже говорил о большой доверчивости Гумилёва. Если прибавить к этому его пристрастие ко всякому проявлению ума, эрудиции, умственной изобретательности, наконец, не чуждую Гумилёву слабость к лести — легко себе представить, как незаметно для себя Гумилёв попал в расставленную ему Якобсоном ловушку. Как незаметно в отвлеченном споре о принципах монархии он признал себя убежденным монархистом. Как просто было Якобсону после диспута о революции «вообще» установить и запротоколировать признание Гумилёва, что он непримиримый враг Октябрьской революции»75.
После публикации «дела Гумилёва» сведения, сообщенные Ивановым со слов «Дзержибашева»-Дерибаса, получили точное подтверждение: все Гумилёвские протоколы фиксируют: «Допрошенный следователем Якобсоном…» И «расстрельное заключение» подписано только одной фамилией — Якобсон76.
И все. Даже инициалы «гения» до сих пор неизвестны. Впечатление такое, что, сверкнув вдруг ослепительно яркой звездой на небосклоне ПетроЧК в августе 1921 года, «следователь Якобсон» сразу после расстрела «таганцевцев» в мгновение ока канул в небытие.
В. К. и С. П. Лукницкие отмечают странности оформления протоколов и заключения: с одной стороны, в деле не содержится ни одного вопроса следователя к Гумилёву, с другой — обвинительное заключение подписано синим карандашом — только «следователем Якобсоном», а предусмотренная машинисткой подпись оперуполномоченного ВЧК отсутствует.
«Следователь Якобсон — по-видимому, кличка Якова Агранова…» — пишет В. Радзишевский. Это действительно могло быть: «особоуполномоченный особого отдела ВЧК», имеющий «особое задание», вполне мог приехать в Петроград под конспиративным псевдонимом. Никто другой из уже отчитавшихся по ПБО питерских чекистов не может претендовать на квалификацию «настоящего инквизитора», говорить на допросах о Макиавелли и красоте Православия.
Агранов знал, что убьет Гумилёва, как только впервые услышал от Таганцева это имя. С этого момента Гумилёв был обречен, независимо от того, совершал ли он что-нибудь «контрреволюционное» или нет.
И не только потому, что для адского эксперимента над петроградской интеллигенцией такой «устрашающий пример», как казнь великого поэта, был весьма существенной «составляющей». Для устрашения и классовой мести дворянам «хватило бы» и тех участников «профессорской группы», за кого некому было похлопотать.
Как объяснить, что щедро одаренный судьбой — красивый и молодой, по общему признанию, умный и обаятельный, разбирающийся в музыке, живописи и поэзии, пользующийся успехом у красивейших женщин (да что там говорить — сильные мира прислушивались к его мнению!) — весь свой «талант» так непримиримо вложит в то, чтобы Гумилёва не смогли спасти ни высокие покровители, ни Ленин с Дзержинским?
Был ли здесь личный мотив? Какая ненависть вела? Зачем понадобилось читать стихи, вести диспуты о религии и философии? Захотелось, что ли, на равных, захотелось отведать бессмертия из чаши их?
Возомнив, что это его исторический шанс, подпись под «расстрельным заключением» Гумилёва Агранов, конечно, поставил собственноручно. И никому подписаться под таким заключением не позволил — это была его «заявка на бессмертие».
Однако сам Агранов — в его собственный «час гиены» — писал покаянные письма Сталину и Ежову из камеры смертников. Это не помогло: он канул в 1938 году в пучине репрессий как «один из тех, кто…», и имя его (равно как и псевдоним) не стало в один ряд ни с Макиавелли, ни даже с Дантесом и Мартыновым. У истории свои права и на злодеев, и на гениев.
История — вопреки всем последовавшим событиям и обстоятельствам — предпочла сохранить бессмертное свидетельство высоты духа и мужества — последнее стихотворение Гумилёва, написанное в дни следствия:
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград.
И горит над рдяным диском
Ангел твой на обелиске,
Словно солнца младший брат.
Я не трушу, я спокоен,
Я моряк, поэт и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймят клеймом позорным,
Знаю — сгустком крови черной
За свободу я плачу.
За стихи и за отвагу,
За сонеты и за шпагу,
Знаю, строгий город мой,
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Отвезет меня домой.
Август 1921
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. М., 1978. Кн. 2. С. 109–115.
2. Из доклада ВЧК о раскрытых и ликвидированных на территории РСФСР заговорах против советской власти в период мая–июня 1921 г. // Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии. 1917–1921 гг. Сб. до кументов. М., 1958. С. 446.
3. Петров М. В дополнение к «делу Н. С. Гумилёва» // Новый мир. 1990. ¹ 5. С. 265.
4. Немирович-Данченко В. И. Рыцарь на час (Из воспоминаний о Н. С. Гумилёве) // Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 235.
5. Голинков Д. Л. Указ. соч. С. 110.
6. Cреди шестнадцати казненных женщин были жены «таганцевцев».
7. Перченок Ф. Ф. Список расстрелянных // Новый мир. 1989. ¹ 4. С. 265.
8. См.: Иванов Г. В. Мертвая голова // Иванов Г. В. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 363–373.
9. См.: Лукницкая В. К. Николай Гумилёв. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. С. 297; Голинков Д.Л. Указ. соч. С. 113; Крейд В. Загадка смерти Гумилёва // Стрелец (Нью-Йорк). 1989. ¹ 3 (63). С. 288.
10. Крейд В. Указ. соч. С. 285.
11. Там же. С. 291.
12. Русская мысль (Париж). 1983. 3 марта (¹ 3454). С. 8.
13. Крейд В. Указ. соч. С. 291.
14. Там же. С. 286.
15. См.: Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии… С. 445–446.
16. См.: Дан Ф. И. Два года скитаний (1919–1921). Берлин, 1922. С. 186–188.
17. См.: Даугава. 1990. ¹ 8. С 166. Подробную биографическую сводку об Я. С. Агранове см.: Иоффе Э. Первый заместитель Ягоды и Ежова // Вечерний Минск. 2007. 19 сентября (¹ 203 (11464)). Яркие характеристики Агранова — в книгах Александра Орлова («Тайная история сталинских преступлений»), Сергея Мельгунова («Суд истории над интеллигенцией»), Георгия Агабекова («ГПУ: записки чекиста»), а также в «Воспоминаниях» Н. С. Хрущева.
18. См.: Новый мир. 1989. ¹ 4. С. 264.
19. Крейд В. Указ. соч. С. 294; см. также об этом: Грязневич В., Орлова Н. Запланированный заговор // Смена (Л). 1991. 24 августа (¹ 196 (19946)); Грязневич В. Профессор Таганцев и другие: пренебрежение банальными истинами // Час Пик (СПб.). 1991. 23 декабря (¹ 51 (96)).
20. Русская мысль (Париж). 1983. 3 марта (¹ 3454). С. 8.
21. Лукницкая В. К. Николай Гумилёв. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. М., 1990.
22. Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 219.
23. Там же. С. 229.
24. Иванов Г.В. Мертвая голова // Собрание сочинений. В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 367–368.
25. Иванов Г. В. Указ. соч. С. 370.
26. Псевдоним Б. Н. Башкирова, сотрудничавшего тогда в гельсингфорсской газете «Новая жизнь».
27. Познер С. Памяти Гумилёва // Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. С. 237.
28. Крейд В. Указ. соч. С. 289.
29. Сам Таганцев, по мнению Д. Л. Голинкова, «не прочь был использовать лозунги мелкобуржуазной контрреволюции: «Свободные перевыборы в Советы», «Советы без большевиков», полагая, что они могут послужить и кадетам» (Указ. соч. С. 111). Именно эти лозунги и были взяты на вооружение восставшими кронштадтцами.
30. Крейд В. Указ. соч. С. 295; второй «студисткой» была О. Н. Гильденбрандт-Арбенина, при этом присутствовали еще М. А. Кузмин, Ю. И. Юркун, О. Э. Мандельштам, В. А. Зоргенфрей, дело происходило в петроградском Доме литераторов.
31. В феврале 1921 года так называли возмущения и стачки в рабочих окраинах, вызванные недовольством «голодной» политикой «военного коммунизма».
32. Пантум — особая форма восточного стихосложения. В. К. Лукницкая датирует данный текст 12 февраля 1921 года.
33. См.: Степанов Е. Николай Гумилёв. Хроника // Гумилёв Н.С. Сочинения. В 3 т. М., 1991. С. 421–422.
34. Иванов Г. В. О свитском поезде Троцкого, расстреле Гумилёва и корзинке с прокламациями // Сочинения. В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 389.
35. Крейд В. Указ. соч. С. 297–298.
36. Но прокламация была им написана. Более того, не получив возможности распространять «авторскую» агитационную продукцию, Гумилёв распространял-таки какие-то другие листовки и даже пытался привлечь к этому знакомых литераторов. Л. В. Берман (поэт, секретарь «Союза поэтов» в 1921 году) вспоминал, что «Николай Степанович обратился к нему за помощью: принес две пачки листовок разного содержания и предложил поучаствовать в их распространении» (Сажин В. Предыстория гибели Гумилёва // Даугава. 1990. ¹ 11. С. 92). Очевидно, после этого эпизода Гумилёв и выговорил у Шведова «право отказываться» в пропагандистской работе «от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам», о чем особо упоминается в показании Таганцева.
37. Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. С. 232.
38. См.: Крейд В. Указ. соч. С. 28
39. Иванов Г. В. Сочинения. В 3 т. М., 1994. Т.3. С. 387
40. Гильдебрандт-Арбенина О. Н. Гумилёв // Николай Гумилёв. Исследования и материалы. Библиография. Л., 1994. С. 462.
41. Иванов Г. В. Указ. соч. С. 387.
42. См.: Тименчик Р. Д. По делу 214224 // Даугава. 1990. ¹ 8. С. 117.
43. Жизнь Николая Гумилёва. Л., 1991. С. 157.
44. Новый мир. 1990. ¹ 5. С. 265.
45. Новый мир. 1989. ¹ 4. С. 268. 46. Терехов Г. А. Возвращаясь к делу Гумилёва // Новый мир. 1987. ¹ 12. С. 257–258.
47. Известия. 1991. 21 сентября (¹ 226). С. 6.
48. Голинков Д. Л. Указ. соч. С. 114–115.
49. Перченок Ф. Ф. Список растрелянных… // Новый мир. 1989. ¹ 4. С. 264.
50. См.: Фельдман Д. Дело Гумилёва // Новый мир. 1990. ¹ 4. С. 267–268.
51. См. об этом: Петров М. В дополнение к «делу Н. С. Гумилёва» // Новый мир. 1990. ¹ 5. С. 264.
52. См.: Жизнь Николая Гумилёва. Л., 1991. С. 210–212.
53. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1970. Т. 53. С. 272.
54. Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. С. 308–309.
55. Крейд В. Указ. соч. С. 285.
56. Лукницкая В. К. Указ. соч. С. 295.
57. Хлебников О. Шагреневые переплеты // Огонек. 1990. ¹ 18. С. 13.
58. Лукницкая В. К. Указ. соч. С. 296.
59. Там же. С. 286.
60. См.: Крейд В. Указ. соч. С. 296.
61. Legget G. The Сheka: Lenin’s politiсal police. Oxford. 1981. P. 442–443.
62. Conquest R. The Great Terror. Harmondsworth, 1971. P. 138.
63. Даугава. 1990. ¹ 11. С. 93.
64. Русская мысль (Париж). 1971. 21 октября (¹ 2865).
65. Мандельштам Н. Я. Вторая книга. Париж, 1978. С. 166.
66. См.: Русская литература. 1988. ¹ 3. С. 183.
67. См.: Лукницкая В. К. Указ. соч. С. 294.
68. См.: Даугава. 1990. ¹ 8. С. 121–122.
69. Ленин В. И. Указ. соч. С. 109. (Выделено В. И. Лениным. — Ю.З.).
70. Жизнь Николая Гумилёва. С. 274.
71. Ходасевич В. Ф. Некрополь. Париж, 1976. С. 234.
72. Жизнь Николая Гумилёва. С. 273–274. Агранов это запомнил и в 1934 году «прикосновенил» Ивана Петровича Бакаева к привычно созданному тогда аграновскими стараниями вокруг убийцы Кирова Николаева «Ленинградскому террористическому центру» (см.: Conquest R. The Great Terror. P. 86–87).
73. Даугава. 1990. ¹ 8. С. 118.
74. Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 235.
75. Иванов Г. В. Указ. соч. С. 169–170.
76. См.: Лукницкая В. К. Указ. соч. С. 289, 290, 291, 294.