«Нет сил человеческих…», или два подхода к событиям июля 1914 года.
Начало войны, август 1914.
Первые три выпуска «Неакадемических комментариев»[1] частично затронули предысторию взаимоотношений двух поэтов, Николая Гумилёва и Анны Ахматовой, но, главным образом, были посвящены всем африканским странствиям Гумилёва и завершились его возвращением из Абиссинской экспедиции в сентябре 1913 года. Вряд ли поэт тогда предполагал, что больше он никогда не увидит «своей Африки» и ровно через год отправится в свое последнее, растянувшееся почти на 4 года «заграничное путешествие», не менее рискованное и опасное, чем «абиссинские эскапады». География его охватит 10 стран, но она не выйдет за пределы Европейского континента. Именно этому, давно меня заинтересовавшему, чрезвычайно важному для поэта, но малоизвестному читателям периоду жизни Николая Гумилёва я намеревался посвятить свои дальнейшие публикации в журнале. Вначале были сомнения, стоит ли рассказ об этих «странствиях» и страницах биографии Гумилёва продолжать как «Неакадемические комментарии», то есть, отталкиваясь от комментариев к эпистолярному наследию поэта в 8 томе ПСС. Однако выход в свет 8 тома рассеял мои сомнения, так как, с одной стороны, появившиеся там многостраничные «академические комментарии» с «сенсационными биографическими материалами», относящимися к событиям июля 1914 года (с которых я намеревался начать рассказ), безусловно, требовали пояснения. С другой стороны, почти единственным доступным и надежным источником биографических сведений, относящихся ко всему четырехлетнему военному периоду жизни Гумилёва, до сих пор оставалась переписка поэта, биографическая и фактографическая основа которой прокомментирована в 8 томе ПСС крайне поверхностно, неполно, в основном — через ссылки на мои старые комментарии к «Запискам кавалериста». По этим причинам в этом выпуске я решил в последний раз сохранить прежнее общее название — «Неакадемические комментарии», а в дальнейшем от него отказаться и продолжать свои биографические заметки под пока предположительным общим заголовком — «ПОЭТ НА ВОЙНЕ. 1914-1918». Начнутся они с рассказа о «Записках кавалериста», с подробной «расшифровкой», буквально, каждого описанного там военного эпизода.
В первом «военном» выпуске я вынужден буду коснуться темы «личной жизни» поэта, хотя копаться в ней, строить всевозможные домыслы, совершать «открытия» в этой сфере — лично мне не особо интересно. Ведь на то она и «личная жизнь» — дело каждого человека, и судить об этом со стороны — занятие малопочтенное. Однако подавляющее большинство биографических «монографий» именно на этом и сосредоточено. Слишком уж лакомый кусочек: союз двух столь неординарных личностей и поэтов — Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Ладно, когда этим занимаются беллетристы, плодовитые биографы-переписчики и сочинители романов — ведь считается, что без такой «клубнички» товар (понятие «книга» здесь не вполне уместно) не найдет спроса. Кстати о романах… Только что вышел очередной «потрясающий» биографический опус[2] из жизни поэта, основанный, как следует из аннотации, на «новых, некогда секретных документах» — типичный образчик такого сорта «литературы». Разбирать подробно его нет смысла, но в примечаниях я обозначил некоторые заслуживающие внимания пассажи автора, а также упомянул еще о двух недавно вышедших книгах, одна из которых заслуживает безусловного внимания, хотя опасаюсь, что пройдет мало кем замеченной.
Как было сказано, истории личных взаимоотношений Гумилёва и Ахматовой я уделил некоторое место в первых «Неакадемических комментариях» и возвращаться к ним не собирался. Но представленный в 8-м томе ПСС «сенсационный материал», введенный в «академические комментарии» писем, касается именно личных отношений между поэтами и супругами. Кто их автор — догадываюсь, но заверяю читателя, что сам я, хотя и значусь в выходных данных книги как один из авторов примечаний, впервые узрел представленные там комментарии на эту тему только после выхода книги из печати.[3] В связи с этим мне захотелось ввести в оборот ряд фактов, нарушающих стройность изложения автора комментариев, в частности, один непритязательный, но любопытный документ — подлинный дневник современницы Гумилёва. Одного этого дневника достаточно, чтобы не тратить лишних слов на опровержение «сенсационного материала». В приложении к данной публикации я приведу большой фрагмент этого дневника. В нем встречается много известных имен, которые могут заинтересовать исследователей, никак не связанных с творчеством и биографией Гумилёва.
Сохраняя «стиль» своих «комментариев», прежде, чем перейти к рассказу об июльских событиях и письмах лета 1914 года, кратко обозначу биографическую канву, начиная с возвращения Гумилёва из африканской экспедиции в сентябре 1913 года и вплоть до начала лета 1914 года. Более подробно об этом периоде смотрите в «Хронике-1991»[4]. Гумилёвскую «Хронику» я дополню не указанным в ней кругом лиц, с которыми в это время общалась Анна Ахматова — это важно для того, чтобы разобраться в дальнейших хитросплетениях.
Вернувшись из Африки в Петербург 20 сентября, в течение недели Гумилёв сдавал собранные коллекции и другие материала в Музей антропологии и этнографии. Затем началась обычная петербургская жизнь, с заседаниями «Цеха поэтов», ОРХС, «Кружка Случевского», с посещениями «Бродячей собаки», публикациями в журналах «Аполлон» и «Гиперборей». Одно событие «личной жизни» осталось незамеченным его виновником — 13 октября 1913 года в Москве у Гумилёва родился второй сын, Орест Высотский (смотрите «Неакадемические комментарии-3»). С октября Гумилёв продолжил занятия в университете. На осенний семестр он записался на следующие лекции: «Логика» (А. И. Введенский), «Введение в романскую филологию» (Д. К. Петров), «Семинарий по истории испанской литературы» (Д. К. Петров), «Семинарий Плеяда» (В. Ф. Шишмарев), «Просеминарий по старофранцузскому языку» (В. Ф. Шишмарев), «Античная религия» (Ф. Ф. Зелинский), «Сравнительная морфология» (С. К. Булич), «Введение в немецкую филологию» (Смирнов), «История греческой литературы» (Придик). В конце года появились первые зарубежные публикации акмеистов: в Париже вышла французская «Антология русских поэтов», составленная Жаном Шюзевилем, с предисловием В. Брюсова, в которую вошли и переводы стихотворений Гумилёва. Гумилёв и сам много занимался переводами французских и английских поэтов (Т. Готье, Ф. Вьеле-Гриффен, Р. Браунинг). В марте 1914 года отдельной книгой вышел его полный перевод «Эмалей и Камей» Т. Готье, деятельное участие в издании которого принял Михаил Лозинский, невольный участник дальнейших описываемых событий[5]. В опубликованном в начале 1914 года сборнике «Пушкинист» приводятся списки участников Пушкинского семинария при С.-Петербургском университете на 1913 г., среди перечисленных фамилий есть и Н. Гумилёв.
В начале января 1914 года Гумилёв познакомился с «виновницей» и участницей последующих комментируемых событий, сестрой поэта Г. Адамовича Татьяной Викторовной Адамович[6]. После почти годичного перерыва в январском «Аполлоне» появились новые Гумилёвские «Письма о русской поэзии». Среди вполне доброжелательно рецензируемых авторов — Игорь Северянин и не выпустивший еще отдельной книги Велемир Хлебников. В те же дни, в футуристическом альманахе «Рыкающий Парнас» появился коллективный манифест, подписанный В. Маяковским, В. Хлебниковым, И. Северяниным и др. — «Идите к черту!»: «…свора адамов с пробором — Гумилёв, С. Маковский, С. Городецкий, Пяст <…> начала кружиться пестрым хороводом вокруг утвердившихся футуристов…».
Продолжая занятия в университете, на весенний семестр Гумилёв записался на лекции по романской филологии и истории испанской литературы (Д. К. Петров), на лекции по французской литературе и старофранцузскому языку (В. Ф. Шишмарев), по немецкой филологии, греческой литературе, античной религии. Из новых курсов записался на лекции по истории французской революции (Кареев). Это был его последний семестр в университете. В университете Гумилёв продолжает участие в романо-германском семинаре. 8 февраля он присутствовал на традиционном ужине участников романо-германского семинара в ресторане «Малоярославец». От этого вечера сохранился коллективный снимок — редкая иконография Гумилёва этого периода.
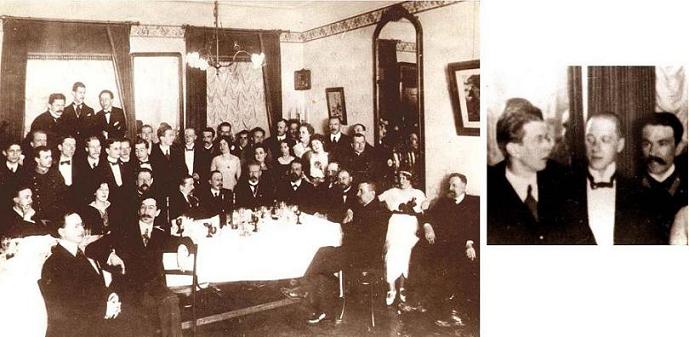
Участники романо-германского семинара в ресторане «Малоярославец», 8.02.1914.
В марте вышли «Четки» Ахматовой: «Четки — 15 марта 1914. Корректуру держал Лозинский. Гумилёв, когда мы обсуждали тираж, задумчиво сказал: «А может быть, ее придется продавать в каждой мелочной лавке. <…> Главная статья — Н. В. Недоброво…»[7]. В апреле Гумилёв с Городецким обменялись резкими письмами (ПСС-VIII, №132, Гумилёв, и №35, Городецкий), что вскоре вылилось в распад первого «Цеха поэтов» и их «идейное расхождение». Весенний сезон завершался, все разъезжались. 20 мая Гумилёв с Ахматовой уехали в Слепнево, как думали поначалу — на все лето. Событие это своеобразно отразилось в письме «теневого» участника, близкого друга Ахматовой Н. В. Недоброво своему давнишнему приятелю Борису Анрепу, тогда еще лично не знакомому с Ахматовой. Это было не первое «интимное» упоминание Ахматовой в сохранившихся письмах Недоброво Анрепу. Так, еще 29 октября 1913 года Недоброво писал: «Источником существенных развлечений служит для меня Анна Ахматова, очень способная поэтесса…».[8] И позже имя Ахматовой неоднократно упоминается в письмах. Любопытно одно «пророческое» письмо от 27 апреля 1914 года:
«Твое последнее письмо меня очень обрадовало — то, что Ты так признал Ахматову и принял ее в наше лоно, мне очень дорого; по личным прежде всего соображениям, а также и потому, что, значит, мы можем считать, что каждому делегирована власть раздавать венцы от имени обоих. Я всегда говорил ей, что у нее чрезвычайно много общего, в самой сути ее творческих приемов, с Тобою и со мною, и мы нередко забавляемся тем, что обсуждаем мои старые, лет 10 тому назад писанные стихи, с той точки зрения, что, под Ахматову или нет, они сочинены.
Попросту красивой назвать ее нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок и генсборовский портрет маслом, а, пуще всего, поместить ее в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии. Осенью, приехав сюда, я думаю, Ты не откажешься ни от одной из этих задач…»
Личное знакомство Ахматовой с Борисом Анрепом состоялось позже: «С Анрепом я познакомилась в Великом Посту в 1915 в Царском Селе у Недоброво (Бульварная)…)»[9].
Так что Недоброво «напророчил» не только дальнейшую судьбу Анны Ахматовой в своей статья, связанной с выходом «Четок» (так к этой работе относилась сама Ахматова, до последних дней считая ее лучшей статьей о своем творчестве)[10]. Хотя портретов Ахматовой, будь то в духе Леонардо или Гейнсборо, Анреп не оставил, но спустя десятилетия, когда Недоброво уже давно не было в живых, Анреп исполнил завет друга. В 1953 году, безусловно, помня о его словах, Борис Анреп ввел изображение Ахматовой в мозаику «Compassion» («Сострадание») на полу вестибюля Национальной галереи в Лондоне.[11

Мозаика Б. Анрепа в Национальной галерее в Лондоне
Однако, как было, сказано выше, в описываемые времен Ахматова и Анреп были знакомы лишь «заочно», по письмам Н. В. Недоброво, поэтому в дальнейшем рассказе он пока участвовать не будет. 12 мая 1914 года (более поздних писем от этой переписки не сохранилось) Недоброво недвусмысленно рассказывает Анрепу о своем отношении к любимой (и любящей!) женщине:
«…Твое предыдущее письмо я, кроме французского словца, вслух прочел Ахматовой. Мы очень смеялись этому странному сочетанию большой проницательности, а тут же — безмерной какой-то недогадливости. Во всяком случае она просит передать Тебе, что только восторги незнакомца и способны ее тронуть, так как восторгами добрых знакомых она переобременена сверх меры и никак не может разобраться, к чему собственно они относятся. Через неделю нам предстоит трехмесячная, по меньшей мере, разлука. Очень это мне грустно. Лето мое начнется в начале июня. Я, вероятно, полностью проведу его в Крыму: мне хочется не иметь никаких обязанностей, даже лечебных, не иметь новых впечатлений, а, отдыхая телом на старых местах, писать побольше для того, чтобы развлекать Ахматову в ее «Тверском уединеньи»[12] присылкой ей идиллий, поэм и отрывков из романа под заглавием «Дух дышит, где хочет» и с эпиграфом:
И вот на памяти моей
Одной улыбкой светлой боле,
Одной звездой любви светлей.
В этом романе с поразительной ясностью будет изображено противозаконие духа и нравственностей человеческих. Сделано это будет с обыкновенным искусством…».
Письма в Слепнево Недоброво наверняка писал (об этом смотрите примечание 12), подтверждением этого является то, что разлука оказалась значительно более краткой, однако Анна Андреевна на эту разлуку откликнулась почти сразу, в мае или начале июня, написанным в Слепневе стихотворением, к которому мы еще вернемся: «Целый год ты со мной неразлучен…» — потому что об этом стихотворении вскоре узнал не только Недоброво…
Так что как литературная, так и личная жизнь обоих супругов в этот период была насыщенной, что и отметила Ахматова в написанных через полвека «Записных книжках». Вот несколько фрагментов из них, описывающих «романы» Гумилёва (точнее отражение их в различных попавшихся ей на глаза мемуарах) и реакцию на них Ахматовой. О своих собственных «увлечениях» того же периода она скромно умалчивает, хотя намеки на них иногда проскальзывают в планах ненаписанной книги «Мои полвека»: «Петербург 10-ых годов. Башня. Цех поэтов. Акмеизм. Малая, 63. «Четки». Война 1914 г. Н. В. Н…» — т.е. Н. В. Недоброво.
«Открываю эту тетрадь критикой чудовищной писанины С. К. Маковского, которую я получила сегодня из Парижа. <…> Никакую красавицу в царскосельском доме я не поселяла (имеется в виду Таня Адамович, которая была просто дурнушка), и это мог выдумать только человек, который насмерть забыл дореволюционный быт и, в частности, дом Анны Ивановны, в котором такая вещь была просто невозможной. <…> Относительно Татьяны Викторовны Адамович, которую так роскошно подает Маковский, могу только напомнить мою строчку: «Мужа к милой провожу» (1914). (Из стихотворения: «Мне не надо счастья малого».) Это была моя единственная реакция на этот «роман» Гумилёва. Начался он в 1914 г. <…> Но в сущности ко мне это никакого отношения не имеет, потому что скоро после рождения Левы, мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга.[13] Тем не менее в 1915 г. Гумилёв писал с войны: «Я ведаю, что обо мне, далеком, / Звучит Ахматовой сиренный стих…», а в 1916, когда я сказала что-то неодобрительное о наших отношениях, он возразил: «Нет, ты научила меня верить в Бога и любить Россию»[14].
<…> «… Стихи из «Чужого неба», ко мне обращенные, несмотря на всю их мрачность, уже путь к освобождению, которое, по мнению некоторых лиц, никогда не было полным, но предположим, что было. После «Ямбов»[15] я ни на что не претендую. Но и в «Чужом небе» я не одна. Цикл стихов Маше — просто стихи из ее альбома, <…> потом (уже в 14 г.) Таня Адамович, М. Левберг, Тумповская, Лариса Рейснер, А. Энгельгардт. На ком-то он собирался жениться (Рейснер), на ком-то женился (Энгельгардт), по кому-то сходил с ума («Синяя звезда»), с кем-то ходил в меблированные комнаты, с кем-то без особой надобности заводил милые романы (Дмитриева и Лиза Кузьмина-Караваева), а от бедной милой Ольги Николаевны Высотской даже родил сына Ореста (13 г.). Все это не имело ко мне решительно никакого отношения. Делать из меня ревнивую жену в 10-ых годах очень смешно и очень глупо. (Выделено Е. Степановым) Уже, когда в начале 20-ых годов я руководила сборами воспоминаний о Николае Степановиче, я называла эти и еще очень многие женские имена, не для сплетен, разумеется, а для того чтобы указать, к кому что относится…»[16]
«…и уже совершенно чудовищная басня (из меморий С. Маковского) о том, что Аня была ревнивой женой. <…> То, что все на свете позабывший и перепутавший 83-летний Маковский мог перепечатать этот злостный вздор, не вызывает ничего, кроме жалости. И хороши же его доказательства. <…> Вторая басня <…> имеет гораздо более преступное намерение. Кому-то просто захотелось исказить образ поэта. Не будем вдумываться, с какими грязными намерениями это было совершено, но оставить это так, как есть, не позволяет мне моя совесть…»[17].
Полностью принимая последнюю фразу Ахматовой, постараемся ничего не искажать, не домысливать, приводить только факты. 1 июня Гумилёв в письме (ПСС-VIII, №133) приглашал в Слепнево своего ближайшего друга М. Лозинского (1886-1955). Подробно об их отношениях, о значении и судьбе архива Лозинского (сохранившегося!) я говорил в предыдущих выпусках «Комментариев» и здесь повторяться не буду.
«Дорогой Михаил Леонидович, июнь почти наступил… я начал письмо в эпическом стиле, но вдруг и с ужасом увидал, что моя аграфия возросла в деревне невероятно. <…> Пожалуйста, вспомни, что ты обещал приехать, и приезжай непременно. У нас дивная погода, теннис, новые стихи… Чем скорее, тем лучше. Я почему-то, как Евангелью поверил, что ты приедешь, и ты убьешь веру в неопытном молодом человеке, если только подумаешь уклониться. О каких-нибудь делах рука не поднимается писать; лучше поговорим. <…> Пишу и не знаю, получишь ли письмо. Петербургский твой адрес забыл, финляндского не знаю, а Аполлон… бываешь ли ты там теперь? Ответь что-нибудь и еще лучше назначь день приезда. <…> Искренно твой Н. Г у м и л е в. P.S. Аня тебе кланяется».
Письмо это, проблуждав почти три недели, все-таки нашло своего адресата. Видимо, вскоре после этого произошел, с моей точки зрения (и с учетом изложенных выше и ниже соображений), малозначительный эпизод, о котором Ахматова, с легким юмором, рассказала Лукницкому:[18]
«…Был такой случай: Н. С. предложил АА развод. АА: «Я сейчас же, конечно, согласилась!» — Улыбаясь: «Когда дело касается расхождения, я всегда моментально соглашаюсь!». Сказала А. И. (матери Гумилёва Анне Ивановне — прим. Степанова), что разводится с Н. С. Та изумилась: почему? что? «Коля сам мне предложил». (АА поставила условием, чтоб Лева остался у нее в случае развода.) А. И. вознегодовала. Позвала Н. С. и заявила ему (тут же, при АА): «Я тебе правду скажу, Леву я больше Ани и больше тебя люблю…». АА смеется: «Каково это было услышать Н. С.!» (что она Леву больше, чем его, любит). После этого Н. С. как-то так «по-дружески» сказал АА, что у Тани такая неприятность, пришли какие-то дамы в институт (Т. Адамович преподавала Далькроза[19], а окончила она Смольный институт), чтобы выбрать для своих детей учительницу танцев. Местное начальство назвало им Т. Адамович. И вот тут эти дамы заявили: «Что вы, что вы — она любовница Гумилёва!». И что Таня очень расстроена, что испорчена ее репутация. АА усомнилась в истине этого рассказа Тани Адамович, сказала Н. С., что это фантазия, потому что совершенно неправдоподобно, чтоб какие-то дамы знали об этом, а если и знали, то так сугубо искали бы невинную учительницу (ибо таких не бывает), а если и искали, то не стали бы заявлять об этом во всеуслышание, в казенном учреждении, да еще местному начальству. И Н. С. быстро согласился с АА, что это фантазия Тани Адамович. После этого как будто и началось его охлаждение к Т. Адамович…»
В этом рассказе любопытно подтверждение поздних дневниковых записей о том, что «мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга». При этом оставаясь в курсе этой самой «интимной стороны жизни» и даже обсуждая ее друг с другом (по крайней мере, как мы видим — со стороны Гумилёва). Вряд ли Ахматова была с Гумилёвым столь же откровенна, но можно предположить, что и он догадывался о ее увлечениях. Возможно, что о Недоброво он не думал, предполагаю, что об их предстоящей встрече в Киеве он не знал, в отличие от Ахматовой — о свидании Гумилёва с Адамович в Либаве. Однако, здесь более любопытно то, что высказанное Ахматовой предположение о склонности Татьяны Адамович к фантазиям оказалось точным, хотя она наверняка не читала ее поздних воспоминаний (см. примечание 6).
Через две недели Ахматова одна уехала в Петербург, Гумилёв просил ее продать в «Ниву» очерк «Африканская охота» (напечатан в «Ниве», 1916, №8). «Продала. Пробыла в Петербурге у папы несколько дней, неделю — не больше, и поехала в Киев. Не в самый Киев, а в Дарницу (мама жила там) — местечко под Киевом, станция железной дороги сейчас же за мостом. Это было, по всей вероятности, начало июля, потому что я успела пробыть там эту неделю, вернуться через Москву одна…»[20] Причину же поездки в Киев можно найти не в описанном выше «объяснении», а в поздней лаконичной дневниковой записи: «Н. В. Н<едоброво>. В Дарнице на даче у мамы летом 1914 (июнь)»[21] Это единственное место в «Записной книжке», где Ахматова точно указывает на встречу с Недоброво. Через пару страниц, в более пространном рассказе о пребывании этим летом в Дарнице, Недоброво уже «зашифрован» как Х.: «Летом 1914 г. я была у мамы в Дарнице, в сосновом лесу, раскаленная жара. Там, кроме меня, жила и сестра Ия Андреевна. Она ходила в другой лес, к Подвижнику, и он, увидев ее, назвал Христовой невестой. («Подошла я к сосновому лесу».) Беседы с X. о судьбах России. Нерушимая стена св<ятой> Софии и Мих<айловский> монастырь — ad periculum maris, т.е. оплот борьбы с Диаволом — и хромой Ярослав в своем византийском гробу…». И через пару страниц — об ощущении времени: «…В Киеве, кроме св<ятой> Софии, запомнился пышный летний ливень, когда ряд улиц превращается почти в водопады. Необычаен был Михайловский монастырь XI в. Одно из древнейших зданий в России. Поставленный над обрывом, потому что каждый обрыв — бездна и, следственно, обиталище дьявола, а храм св<ятого> Михаила Архангела, предводителя небесной рати, должен бороться с сатаной (Ad periculum maris). Все это я узнала много позже, но Мих<айловский> мон<астырь> нежно любила всегда…»[22]. Ахматова, всегда предававшее большое значение «круглым датам», делала эти записи в «юбилейном», 1964 году — для нее это был пятидесятилетний юбилей «начала конца». Вскоре после возвращения из Италии и Рима. Об этом подробно — у Романа Тименчика[23].
От этого же пребывания в Киеве сохранилось письмо М. Лозинскому, не совсем понятное, но говорящее о ее планах и настроениях; я предполагаю, что отправлено оно было в ожидании Недоброво, до его приезда. На письме вместо даты проставлено — «День Купальницы-Аграфены» (23 июня по ст. стилю), на штемпелях, Киев 25.6.14, С.-Петербург 27.6.14[24]:
«День Купальницы-Аграфены. Очень мне жалко милый Михаил Леонидович, но заклад Ваш Вы потеряли. За границу я не поеду, что там делать! А дней через 10 буду опять в Слепневе и уже до конца там останусь. Если даст Бог помру, если нет — вернусь в Петербург осенью глубокой. <…> Лето у меня вышло тревожное: мечусь по разным городам и везде страшно пусто и невыносимо <…> Мне сказали, что издание «Четок» придется повторить в сентябре. Не очень я этому верю. До свидания. Анна Ахматова».
Гумилёв недолго оставался в Слепневе, в середине июня он уехал в Вильно, а оттуда в Либаву (Лиепая в Латвии). Цель поезди очевидна. После состоявшегося объяснения с Ахматовой — выяснение отношений с Татьяной Адамович.

Либава, ныне заграничная, латвийская Лиепая.
Татьяна Адамович, точнее — уже Высоцкая, после 1918 года.
В Либаве у Татьяны Адамович он пробыл недолго, вряд ли более недели, домысливать о его пребывании там ничего пока не будем, однако позже прокомментируем одно «свидетельство». Сейчас важно только то, что уже в конце июня или начале июля Гумилёв вернулся в Петербург. Есть не очень надежное свидетельство[25], что 5 июля он посетил брата Дмитрия, был на 5-летии его свадьбы. 6 июля уехал в Териоки, остановился в пансионе «Олюсино», комната №7 [26]. Теперь можно переходить к письмам, которые вызвали столь душещипательные «академические комментарии». Первое письмо, точнее, открытка «Териоки. Берег моря» — Лозинскому (ПСС-VIII, №134), из Териок (сейчас — Зеленогорск), 9 июля, в соседнее местечко Ваммельсуу (Vammelsuu) (сейчас — Серово). Как Териоки, так и Ваммельсуу относились к Финляндии, и жили по «европейскому времени» — штампы на конвертах проставлялись по новому стилю. В Ваммельсуу располагалась дача жены Лозинского Татьяны Борисовны, урожденной Шапировой (1885-1955), ожидавшей рождения ребенка. Заметим — рядом располагалась дача Леонида Андреева, знаменитый «Дом на Черной речке».
«Дорогой Михаил Леонидович, прости, что так долго не писал — это аграфия. Теперь если бы ты захотел меня увидать, тебе стоит только проехать девять верст до Териок (города) и в кофейне Идеал (близ вокзала, в двух шагах от гостиницы «Иматра») спросить меня. Если я не дома, значит, в теннисном клубе (пройди туда) или на море. Но по утрам я обыкновенно дома до двух. Не можешь приехать, напиши. Твой Н. Г у м и л е в».
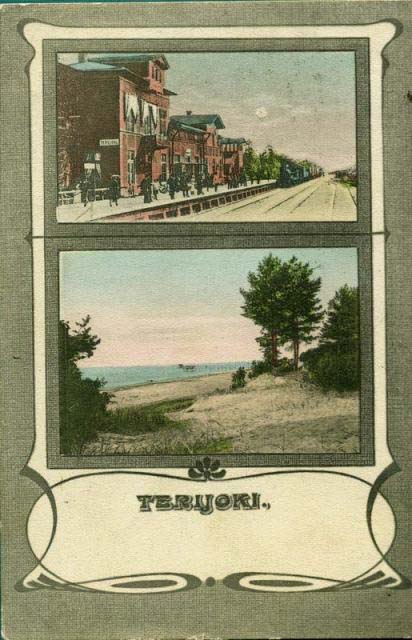
Териоки. Открытка 1914 года. Вокзал и вид побережья.
Ответ последовал незамедлительно, 10 июля 1914 года (ПСС-VIII, №36):
«С изумлением беспримерным, дорогой Николай Степанович, получил я сейчас твое письмо из Териок. Приди оно хоть несколькими днями раньше, это изумление было бы и приятнейшим. И я, конечно, немедленно на коне или на корабле отправился бы в Териоки, чтобы похитить тебя из этого скверного посада в очаровательное Vammelsuu. Но увы!.. теперь уже поздно… Сегодня Таня и я переселяемся в Петербург — она до конца месяца, а я совсем: только в августе буду наезжать сюда по субботам. Ну не стыдно ли тебе. Ведь ты, по-видимому, живешь в Териоках с 24-го, 25-го июня, и не мог мне раньше написать. Правда, ты не мог знать, что я так скоро покину Финляндию. А все-таки стыдно. В Петербурге я ловил тебя по телефону, как и ты меня, но безрезультатно. В Слепнево я отправил тебе пространное послание, которое ты, вероятно, уже не успел получить. Писал в нем и о всяких делах… <…> Со мною чуть припадок не сделался, когда я узнал, что ты все это время жил у нас под боком, одержимый своей злосчастной аграфией. Несчастный ты человек, губитель услад дружества! Соберись с силами, напиши мне в Петербург, каковы твои планы, до осени ли ты будешь в Териоках, когда думаешь попасть в город. Твой М. Лоз<инский>»

Ваммельсуу. Черная речка, 1910-е годы.
Отъезд Лозинских с дачи объяснялся приближавшимися родами его жены — родила она сына Сергея уже через 10 дней, 19 июля, когда началась уже совершенно другая «эпоха», и Гумилёв откликнулся на рождение сына Лозинского своим первым военным стихотворением. В самих письмах ничего, кроме естественного огорчения из-за невозможности встретиться с другом и обмена текущими окололитературными новостями нет. Поэтому изумление вызывают такие их комментарии:
«Письмо к М. Л. Лозинскому написано в обстоятельствах, крайне сложных для поэта, вовлеченного (в большей степени по его собственной вине) в чрезвычайно тяжелый семейный скандал. Это — обращение к другу за помощью (подробно см. о событиях июня-июля 1914 г. в комментариях к № 37 наст. тома). Лозинский показал себя настоящим другом Гумилёва и Ахматовой, сумевшим с предельным тактом выполнить сложную «примирительную» роль в конфликте супругов, чуть-чуть было не обернувшимся полным разрывом. (ПСС-VIII, с.526). <…> Лозинский пишет это письмо, приняв на себя роль посредника-примирителя между супругами Гумилёвыми, переживших в это время резкий разрыв отношений (см. подробно об этом комментарии к № 37 наст. тома). Одновременно с этим письмом он отправил информацию о приезде Гумилёва в Териоки и его адрес в Слепнево Ахматовой (никаких ссылок на местонахождение указанного письма не дано, и у меня лично вызывает большое сомнение сам факт его существования, потому что в тот же день сам Гумилёв пишет письмо Ахматовой, см. ниже — прим. Степанова) <…> Очевидно, после скандала в Слепнево и разрыва с Ахматовой, Гумилёв по пути в Либаву, заехал в Петербург (??? — мои вопросы. E. C.). Ахматова также поехала в Дарницу через Петербург, так что в середине июня Лозинский оказался «между двух огней», став de facto конфидентом обоих поссорившихся супругов» (ПСС-VIII, с.596).
После таких комментариев — становится жалко Лозинского. Ведь это так непросто — «принять на себя роль посредника-примирителя между супругами Гумилёвыми». Особенно тогда, когда сам Лозинский со дня на день ждал появления первенца, думал о здоровье жены, Татьяны Борисовны Лозинской, оставаясь, как видно из его писем, в курсе всех литературных дел и поддерживая приятельские отношения с обоими сторонами «конфликта». И уж совсем немыслимо при всем этом оказаться в Петербурге «между двух огней, став de facto конфидентом обоих поссорившихся супругов», проживая в то же самое время (de facto!!!) — в Ваммельсуу!
В тот же день, 10 июля, когда Гумилёв получил, возможно, огорчившее его, из-за невозможности повидаться, письмо от Лозинского, он пишет жене (ПСС-VIII, №135), будучи уверенным, что Ахматова еще отдыхает у родственников на Украине (ПСС-VIII, №135).
«Милая Аничка, думал получить твое письмо на Царcк<осельском> вок<зале>, но не получил. Что, ты забыла меня или тебя уже нет в Деражне? Мне страшно надоела Либава, и вот я в Териоках. Здесь поблизости Чуковский, Евреинов, Кульбин, Лозинский, но у последнего не сегодня-завтра рождается ребенок. Есть театр, в театре Гибшман, Сладкопевцев, Л. Д. Блок и т.п. Директор театра Мгебров (офицер). У Чуковского я просидел целый день; он читал мне кусок своей будущей статьи об акмеизме, очень мило и благожелательно. Но ведь это только кусок и, конечно, собака зарыта не в нем! Вчера беседовал с Маковским, долго и бурно. Мы то чуть не целовались, то чуть не дрались. Кажется, однако, что он будет стараться устроить беллетристический отдел и еще разные улучшенья. Просил сроку до начала августа. Увидим! Я пишу новое письмо о русской поэзии — Кузмин, Бальмонт, Бородаевский, может быть, кто-нибудь еще. Потом статью об африканском искусстве. Иру бросил. Жду, что запишу стихи. Меланхолия моя, кажется, проходит. Пиши мне, милая Аничка, по адресу Териоки (Финляндия), кофейня «Идеал», мне. В этой кофейне за рубль в день я снял комнату, правда, неплохую. Значит, жду письма, а пока горячо целую тебя. Твой Коля. Целую ручки Инне Эразмовне.»
Это письмо пропутешествовало до Киева, и оттуда было переслано матерью Ахматовой Инной Эразмовной назад, в Слепнево. Гумилёв даже не знал о том, что Ахматова была у матери в Дарнице, а тем более — о визите туда Н. В. Недоброво. Ведь до этого Ахматова обычно ездила к своим родственникам (по матери) в Подолию, около станции Деражня, почему она и упоминается в письме. Данное письмо нуждается в обычных литературных комментариях. Для этого были почти дословно переписаны комментарии Р. Тименчика из книги «Гумилёв-1991-3, с.339-340», но добавлена «глубокомысленная» преамбула: «„Гомеровский“ перечень «знакомых из Териок», очевидно призван стать «эпическим щитом» для лирического подтекста письма, написанного „беженцем из Либавы“…» Про «Гомеровский перечень» и «эпический щит» — извините, не понял. Подтекста же в письме (как и в подавляющем числе писем Гумилёва, чем они и хороши!) никакого нет. Он даже откровенно упомянул про Либаву — точно зная, что жена его поймет. Письмо это Ахматова получила лишь 17 июля и сразу же на него ответила. Но до этого, 13 июля, через три дня после возвращения в Слепнево, она написала еще одно письмо, по-своему милое, но не лишенное женского коварства (ПСС-VIII, №37). Именно это скромное письмо послужило поводом для многостраничного душещипательного повествования — комментария, но об этом — ниже (все эти письма привожу полностью):
«Милый Коля, 10-ого я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. О погоде и делах тебе верно напишет мама. В июньской книге «Нового Слова» меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. Я написала несколько стихотворений, кот<орые> не слышал еще ни один человек, но меня это, слава Богу, пока мало огорчает. Теперь ты au courant* (*в курсе — франц.) всех петербургских и литературных дел. Напиши, что слышно? Сюда пришел Жамм. Только получу, с почты же отошлю тебе. Прости, что я распечатала письмо Зноски, чтобы большой конверт весил меньше. Я получила от Чулкова несколько слов, написанных карандашом. Ему очень плохо и мне кажется, что мы его больше не увидим. Вернешься ли ты в Слепнево? или с начала августа будешь в Петербурге. Напиши мне обо всем поскорее. Посылаю тебе черновики моих новых стихов и очень жду вестей. Целую. Твоя Аня».
Письмо написано на двойном листе[27], и его «коварство» заключено во вписанных стихах. Два стихотворения. Первое — «Завещание» («Моей наследницей полноправной будь…»), впоследствии никогда при жизни не перепечатывалось. Думаю, что его можно трактовать как косвенное послание «сопернице» — Татьяне Адамович. Но — без всякого надрыва. И как подтверждение этого — вписано второе стихотворение, адресат которого для нас очевиден: «Целый год ты со мной неразлучен…» Впервые опубликовано в «Белой стае», пока без посвящения, посвящение появится позже — Н. В. Н. Предполагаю, что Гумилёв не задумывался, к кому оно обращено, а если такие мысли и приходили ему в голову, то вряд ли он мог отнести его к себе. Ведь большую часть прошедшего года он провел в Африке! Но для него, в первую очередь, — это просто были новые стихи жены, и как стихи (а не как исповедь!) он их и оценивал, не воспринимая как некий «тайный знак», способный что-либо изменить в их отношениях. Гумилёву как личности был всегда свойственен трезвый взгляд на жизнь (хотя предполагаю, что большинство в этом со мной не согласится).
Тональность написанного через четыре дня, 17 июля, еще одного письма Ахматовой (ПСС-VIII, №38) не отличается от предыдущего, хотя это уже ответное письмо. Ахматова узнала про Либаву и териокскую жизнь, но никакой особой реакции это не вызвало, видно только, что до Слепнева пока еще не дошли отголоски тех событий, которыми уже жил в эти дни весь Петербург, и которые отразились в написанном в этот же день встречном письме Гумилёва. Ахматова 17 июля писала:
«Милый Коля, мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепневе. Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня, оно кажется имеет право существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, наверно, тоже. С «Аполлона» получишь пустяки. А нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с «Четок» что-нибудь получим. Меня это все очень тревожит. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать. Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме как лекцию? Ведь он и это может. С недобрым чувством жду июльскую «Русскую мысль». Вероятнее всего, там свершит надо мною страшную казнь Valere (имеется в виду — Валерий Брюсов). Но думаю о горчайшем, уже перенесенном, и смиряюсь. Пиши, Коля, и стихи присылай. Будь здоров, милый! Целую. Твоя Анна. Левушка здоров и все умеет говорить».
Обычный письменный диалог супругов и поэтов, как следствие этого, перемешаны бытовые и литературные вопросы. К письму приложено еще одно стихотворение, на этот раз — без «намеков«: «Подошла я к сосновому лесу…» Стихотворение написано в Дарнице и обращено в младшей сестре Ие (1894 — 1922; смотрите выше и примечание 22). Стихотворение это — просто переложение приведенного рассказа сестры о визите к Подвижнику; вскоре оно было опубликовано журналом «Отечество», 1914, №7, позже вошло в «Белую стаю» (всюду — без названия и посвящения), а в сборнике 1940-го года «Из шести книг» получило подзаголовок «Моей сестре». Я предполагаю, что это дань ее памяти. Не могла же Анна Андреевна посвятить сестре, при ее жизни, такие строчки, как «…И блаженную примешь кончину….». Вспомнить же об этом в 1940 году — вполне естественно. С моей точки зрения появление такого подзаголовка в 1940 году, после множества реально пережитых смертей близких людей, отнюдь не «блаженных», после «Реквиема», вносит в стихотворение дополнительный подтекст. Поэтому я не вполне согласен с предположением Романа Тименчика о том, что стихотворение первоначально было написано под впечатлением только что опубликованного стихотворения А. Блока «Моей сестре» (в четвертом номере «Ежемесячного журнала» за 1914 год, где одновременно была помещена рецензия М. Л. Моравской на «Четки» Ахматовой). Хотя, возможно, что позднее появление такого названия у стихотворения — дальний отголосок первоначальной публикации Блока. Замечу, что у самого Блока название присутствует только в первой публикации 1914 года, в дальнейшем, в «Ямбах», оно шло без названия — «Когда мы встретились с тобой…».
В эти же дни, скорее всего, одновременно со вторым письмом Гумилёву, 17 июля, Ахматова пишет большое письмо Г. И. Чулкову[28] в Лозанну, конфиденту «донжуанского списка» (см. примечание 13): «…Здесь тихо, скучно и немного страшно. Вести извне звучат совсем невероятно, людей я не вижу и вообще как-то присмирела…» Сообщает ему о начале работы над «большой вещью» (поэма «У самого моря»), хорошо отзывается о его романе «Сатана», опять возвращается к планам поездки за границу, в Швейцарию, от которых, спустя всего несколько дней, уже по совсем другим причинам, окончательно пришлось отказаться…
Сразу же приведу последнее «мирное» письмо Гумилёва (ПСС-VIII, №136), требующее уже «военных» комментариев, которыми я и должен был заниматься, если бы не «сенсационные академические комментарии», потребовавшие затянувшихся пояснений:
«Милая Аничка, может быть, я приеду одновременно с этим письмом, может быть, на день позже. Телеграфирую, когда высылать лошадей. Время я провел очень хорошо, музицировал с Мандельштамом, манифестировал с Городецким, а один написал рассказ и теперь продаю его. Целую всех. Очень скоро увидимся. Твой Коля».
«Военную» сторону письма прокомментирую чуть позже, а сейчас несколько слов о том, как эти четыре письма преподнесены в восьмом томе Полного собрания сочинений. Заманчиво дать весь этот «комментаторский шедевр», но он составляет более 20 тысяч знаков, или свыше 10 страниц убористого текста, поэтому, для экономии «бумаги» (хотя в данном случае она — виртуальная), ограничусь несколькими цитатами и кратким изложением, что не искажает сути. Желающие по оригиналу могут убедиться в том, что я не «передергиваю» факты, как часто бывает при подборе цитат. Так как свою версию событий я изложил выше, от себя добавлять ничего не буду. По-моему, текст говорит сам за себя. Выделю только самые «ударные» места и кое-что отмечу курсивом в скобках. Цитируемые комментарии приведено точно так, как в книге (со всеми, в том числе наборными, ошибками).
Как следует из приведенных выше цитат комментариев к переписке с Лозинским, все сосредоточено в комментариях первого письма Ахматовой Гумилёву (ПСС-VIII, №37).
(Из ПСС-VIII, №37 сс.596-602). «Два письма Ахматовой Гумилёву из Слепневj (sic! — неисправленная ошибка верстки, коих великое множество, далее буду изредка их помечать), написанные 13 и 17 июля 1914 г., в самый канун Мировой войны, — единственные дошедшие до нас из всего их эпистолярного цикла. В сочетании с письмами Гумилёва от 10/ 23 июля 1914 г. из Териок и от 17 июля 1914 г. из Петербурга (№ 135 и № 136 наст. тома) они дают возможность хотя бы частичной реконструкции стилистики утраченной переписки, позволяют слышать голоса великой супружеской пары в их диалогическом общении (выделено С. Е. — как сказано, просто мороз по коже!!!). Предвоенные месяцы в жизни супругов Гумилёвых были крайне драматичными и насыщены всевозможными событиями, так, что для лучшего понимания писем необходим исторический экскурс. Гумилёв и Ахматова переехали из Царского Села в Слепнево в конце мая 1914 г., рассчитывая, очевидно, на длительный совместный летний отдых. <…> Затем следует тяжелейший конфликт, повод к которому нам неизвестен, но причина несомненна — с января 1914 года Гумилёв серьезно увлекается Татьяной Викторовной Адамович <…> (Далее следуют многочисленные цитаты из Лукницкого, пересказывающие даже не Ахматову, а ее подругу — Валю Срезневскую, а также фрагменты путаных воспоминаний самой Т. Адамович, о «значении» которых сказано в примечании 6; о Гумилёве там — практически, ни слова!) <…> У двадцатипятилетней Ахматовой впервые в ее отношениях с Гумилёвым появилась сильная, настоящая «соперница», и она очень болезненно переживала это. Отношения между супругами с зимы 1914 г. совершенно разладились, и нужен был лишь внешний толчок, чтобы скрытое неблагополучие вырвалось наружу. Именно это и произошло в середине июня в благополучной, с теннисом и гостями-соседями «дачной» слепневской жизни. Реакция Гумилёва была резкой и недвусмысленной (Далее следуют приведенная мною в примечаниях цитата из Лукницкого — про «развод», но почему-то с «сокращениями», искажающими смысл сказанного, рассказ про отъезд Гумилёва, хотя очевидно, что Ахматова уехала раньше, про ее письмо Лозинскому, про встречу с Блоком и все в том же роде, без каких бы то ни было логических связей.) <…> Между тем Гумилёв пребывает в Либаве, и никакой связи между ним и Слепнево нет. Обстоятельства этого пребывания неизвестны <…> Можно также с уверенностью сказать, что перспектива бракосочетания с Т. В. Адамович по истечению достаточно небольшого срока стала казаться ему все менее и менее заманчивой — и тогда же, 9 июля <…> Гумилёв «выныривает» в Териоках, в равном удалении и от Либавы, и от Слепнево <…> Здесь, в Терионах (sic! — Терионах ) он, здраво обдумав обстоятельства, принимает «соломоново решение», и дает знать о себе — другу, Лозинскому, причем — посланием самого «обтекаемого» содержания (см. письмо № 134 наст. тома). Лозинский, который из-за последнего срока беременности жены не может отлучиться из дому, все же идеально выполняет взятую им на себя «миссию примирения«: пишет блестящее в своем роде, — «успокаивающее» и со многими ободряющими «подтекстами», — послание попавшему в затруднительное положение Гумилёву (см. письмо № 36 раздела «Письма к Н. С. Гумилёву» наст. тома), и немедленно связывается с Ахматовой, сообщая ей точные координаты затерявшегося мужа (повтор! — свои сомнения о существовании такого письма я высказал выше; а как следует из письма Гумилёва, затерялась как раз Ахматова). Та, подавив гордость, первая пишет настоящее — удивительное! — «примирительное» письмо (Заметим — на самом деле Гумилёв написал письмо первым, 10-го июля, в день приезда Ахматовой в Слепнево, а она пишет только 13-го! Далее, в комментариях (!) — повторяется письмо Ахматовой!) Ахматова пишет это письмо, прилагая к нему два, созданных в эти дни гениальных стихотворения (комментировать которые в этом контексте нет сил человеческих) (а у меня нет сил — комментировать ЭТО), — пишет, не зная, что пока «шли переговоры» между Ваммельсуу и Слепнево (какие переговоры, когда Ахматовой в Слепневе в помине еще не было!!!), сам Гумилёв, отдав визиты Чуковскому и С. К. Маковскому и допоздна проговорив с ними о текущих вопросах литературной политики, наутро собрался с духом, и тоже, подавив гордость, решил первым «пойти на мировую» (как-то странно — оба «первые»; далее повторяется письмо Гумилёва! А чем занимался и с кем проводил время Гумилёв именно в эти дни известно совершенно точно, но рассказ об этом, разрушающий всю предложенную «реконструкцию» — впереди…) <…> Это письмо от (sic!) отправляет в Дарницу, откуда Инна Эразмовна Горенко (по всей вероятности, не менее взволнованная происходящим, чем Анна Ивановна Гумилёва) (чем взволнована? может тем, что у Ахматовой в Дарнице гостит Недоброво?) немедленно пересылает его в Слепнево. Второе письмо Ахматовой — от 17 июля (№ 38 раздела «Письма к Н. С. Гумилёву» наст. тома) — вздох облегчения, и такое же (sic!) вздох облегчения — письмо Гумилёва от того же 17 июля, которое он пишет «синхронно» с женой, также получив ее «мировую» (Опять повтор части письма!)
Думаю, мои сомнения в необходимости подобных «академических комментариев» понятны. Завершаются комментарии огромной цитатой из «Пятистопных ямбов», в «военной» редакции 1915 года, и такой высокопарной фразой:
«В истории мирового эпистолярного искусства найдется немного эпизодов, равных по драматизму, психологической глубине и исторической содержательности переписке Гумилёва с Ахматовой в июле 1914 года».
Эта фраза напомнила мне известное изречение Сталина по поводу сказки Горького «Девушка и смерть» — «Эта штука посильнее «Фауста» Гете». Ничего не имею против Гумилёва и Ахматовой (как и Горького), но чувство меры все-таки должно существовать!
Далее следуют краткие литературные комментарии по тексту письма, но и здесь безобидная фраза Ахматовой про то, что «меня очень мило похвалил Ясинский», помимо необходимого указания на ее происхождение трактуется как «несомненный скрытый «вызов» обиженной Ахматовой: Гумилёв, ранее сотрудничавший с этим изданием, порвал все отношения с журналом и его редактором».
Последующие комментарии к написанным в один день (17 июля) письмам трактуются как «момент благополучного разрешения конфликта супругов Гумилёвых» (№136 Гумилёва) и «окончательное примирение супругов Гумилёвых после разрыва в июне 1914 г. (№38 Ахматовой). Фактические неточности и субъективные интерпретации в комментариях, относящиеся к самому тексту писем, я опускаю — на то воля автора. Здесь же мне хотелось рассмотреть вопрос о допустимости самого такого подхода к комментариям, о возможности столь вольной интерпретации не текстов произведений и писем, а внутренней жизни их создателей — при отсутствии фактов, опираясь только на свои «внутренние ощущения». Я уделил этому вопросу столько времени, потому что факты как раз имеются, и, опираясь на них, приходишь к диаметрально противоположным выводам. Лично я считаю, что в комментариях, тем более «академических», относящихся к личной жизни героев, допустимо давать лишь документально подтверждаемые факты, но уж никак не выносить собственные трактовки и суждения. Пусть этим занимаются романисты. Тогда и «документальные романы» может быть станут более читабельными, или, по крайней мере, не будут вызывать такое раздражение. К счастью, комментатор не сделал (хотя и мог!) основополагающий вывод из своих комментариев о том, что именно из-за «семейного скандала» Гумилёв «сбежал на войну», но убежден, что вскоре найдется сочинитель, который воспользуется «открытием» — ведь такой вывод из таких «комментариев» — вполне естественен! На этом я завершаю «письменную пикировку», возвращаюсь к хронике событий и собственным комментариям.
Безусловно, главное событие, определившее на многие годы судьбу не только поэтов, но и миллионов ничего не подозревавших граждан, произошло 15 июня 1914 года (даты даются, как и ранее, по российскому старому стилю, хотя само это событие случилось в Европе, по новому стилю — 28 июня) в боснийском столичном городе Сараево. В этот день террористы дважды покушались на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, во второй раз — удачно, эрцгерцог был убит[29]. Как часто бывает, поначалу событие это заметили только в «верхах», и потребовался ровно месяц, чтобы оно затронуло всех. 15 июля Австрия объявила войну Сербии. «Пахнет войной» — записал в этот день Блок в своем дневнике.
Но пока мы вернемся в Териоки, на неделю назад, чтобы дополнить и оживить изложенные в письмах поэтов события. Представился редкий случай, когда можно, буквально, по дням проследить последнюю мирную неделю жизни в Териоках. Для этого мы воспользуемся сохранившимся дневником Веры Алперс[30]. Вера Владимировне Алперс (1892 — 1982) на протяжении многих лет вела дневник. В рукописном отделе РНБ в Петербурге хранятся четыре тетрадки этого дневника за 1910-1916 годы. Записи велись иногда ежедневно, иногда с перерывами. Нельзя сказать, что документы эти не были замечены, но до сих пор они связывались исключительно с именем композитора Сергея Прокофьева, близкого друга Веры Алперс на протяжении всей жизни.
Обычный дневник молодой образованной девушки, близкой к музыкальным кругам. Дневнику она поверяет свои личные переживания, впечатления, описывает встречи с различными людьми. Хотя нас больше всего будут интересовать упоминания Гумилёва, но на страницах дневника встречаются (помимо Прокофьева) такие имена, как петербургский поэт Михаил Долинов (1892-1936, Париж) — в 1915 году он несколько месяцев был мужем Веры Алперс, рецензии на его сборники стихов Н. Гумилёв поместил в «Аполлоне» №10, 1911 (на «Пленные голоса») и в №10, 1915 (на «Радугу»), Осип Мандельштам (1891-1938), Всеволод Мейерхольд (1874-1940), Александр Блок, семья пушкиниста С. М. Бонди (1891-1983), скорее всего, его брат Ю. М. Бонди, Ахматова, пианист Г. Г. Нейгауз (1888-1964). В приложении будут приведены все сделанные мною выписки из дневника (только малая часть всего текста четырех тетрадок дневника). По этой причине я не взялся за его подробное комментирование, ограничившись беглыми заметками о некоторых упоминаемых лицах (выражаю за помощь искреннюю благодарность Роману Тименчику) и оставляя подробное комментирование для последующих исследователей. Возможно, дневником заинтересуются не только любители Гумилёва. Кроме того, дневник этот мне показался интересным документом времени, непредвзятым, хотя и субъективным взглядом на события и людей — со стороны. Чем-то напоминающим старые фотографии, на которые случайно попадает то или иное лицо…

Вера Алперс в юности, в годы учебы в консерватории с С. Прокофьевым, незадолго до знакомства с Николаем Гумилёвым…
Ниже я приведу все встретившиеся в дневнике упоминания Гумилёва. Виделись они всего одну неделю, как раз ту, которая разделяет два посланных из Териок письма, с 10 по 17 июля. Но любопытны также более поздние упоминания его имени. Влюбленности никакой с ее стороны не было, поэтому в дневнике она все фиксировала «трезвым» взглядом. Этим дневник и ценен.
Самая ранняя дата появления Гумилёва в районе Териок известна по письму Бабенчикова художнику Кульбину от 7 июля 1914 года (см. примечание 26): «…Вчера приехал в Куоккалу <…> Н. С. Гумилёв…» В Куоккале жил Чуковский, Гумилёв посетил его, о чем написал 10 июля Ахматовой: «У Чуковского я просидел целый день…». Рядом с Чуковским жил Кульбин. Куоккала (Репино), Келомякки (Комарово), Териоки (Зеленогорск), Ваммельсуу (Серово) — расположенные недалеко друг от друга дачные поселки на берегу Финского залива. Судя по письму Бабенчикова, вначале, после Либавы и Петербурга, Гумилёв поселился именно в Куоккале, в пансионе «Олюсино», комн. №7, а затем, не позже 9 июля, он перебрался в Териоки. В письмах от 9 июля Лозинскому и от 10 июля Ахматовой он сообщает новый, Териокский адрес — кофейня «Идеал», близ вокзала. Упоминаемый Гумилёвым в письме театр Гибшмана располагался в Куоккале, но давал представления и в Териоках. Одно такое представление состоялось 6 июля, но, видимо, в письме Гумилёв подразумевает «основную сцену». Любопытно, что на этом «выездном» представлении побывала Вера Алперс, о чем она сделала запись 7 июля (смотрите Приложение), так что есть некоторая вероятность того, что впервые они встретились на этом представлении. Но думаю, 6 июля Гумилёва в Териоках еще не было, хотя последующая его задержка там была связана как раз с новым знакомством. Итак, первое упоминание Гумилёва в дневнике Веры Алперс.
11 июля. Пятница.
«Опять зной нестерпимый. Интересные дни были последнее время. Вчера я сделала глупость конечно, согласившись пойти с Гумилёвым в отдельный кабинет. Какова смелость! Черт знает что такое! Пожалуй я слишком уверена в себе. Такие штуки опасны очень. Вела я себя великолепно. Он конечно влюблен в меня. И я это чувствовала, Откровенно говоря я трусила. Я даже посмотрела на задвижки окон………… Разговор был очень интересный. В общем все это довольно гадко. Он мне совершенно не нравится. Конечно приятно покорить людей хоть на время, только долго возиться с ними неинтересно. Вчера был страшно хороший день. После обеда мне так весело было играть в теннис с Долиновым. Мы как дети играли. А когда стемнело, я сидела с доктором у моря. Он очень интересный. Он пожалуй лучше всех. Наши все смеялись над моим поведением. Папа даже назвал меня «Незнакомкой». (Впрочем они тогда еще не знали про отдельный кабинет!) Сегодня мама была удивлена и даже огорчена немного, и сказала, что теперь она ожидает от меня всего. Это ужасно. Конечно это было легкомысленно. Но странно: у меня есть какая-то сила отдалять людей, не давать им повода не только к фамильярностям, но даже к намеку о фамильярности. Я верю в эту силу и мне приятно ее иногда испытывать. Ну будет об этом. Тут конечно может быть сплетня, а может и ничего не быть. Во всяком случае я с Гумилёвым буду осторожна. Дальше нельзя так продолжать. Вчера он говорил, что я должна ему написать письмо. Я была искренне удивлена и конечно не подумала ни писать, ни говорить с ним об этом. У него идет вполне определенная игра и намеренность меня завлечь. Но это ему не удастся. Я вижу его программу. И эти книги...... стихи........"
Значит, первое «серьезное свидание» Веры Алперс с Гумилёвым состоялось как раз 10 июля, днем, в день написания первого письма Ахматовой. «Отдельный кабинет» — скорее всего, просто комната, которую он «снял за рубль» в кофейне «Идеал». После свидания естественно звучит фраза в письме: «Меланхолия моя, кажется, проходит…» А в комментариях (ППС-8, №135, с.527) все это преподносится как «Примирительное письмо после разрыва с женой в июне 1914 г.»
После этого свидания Гумилёв не покинул Териок. Следующая запись в дневнике только 14 июля, но судя по всему, встречаются они ежедневно.

Териоки. Кафе — павильон (может быть и «Идеал»).
14 июля. Понедельник.
«Стыдно, стыдно писать такие вещи. Причем тут программа, причем тут игра. Этот человек может помочь мне воспитать саму себя. Я столько узнала о себе за последние дни, я точно вступила в другой мир, мне открылась возможность иной, внутренней жизни, внутренней работы. Я знаю: мне этого не хватало. Я знала, что нужно что-то делать с собой. Но я не знала, над чем мне нужно работать. Я не знала части своих недостатков. И потом я не знала, действительно ли это недостатки. Я думала, что это может быть свойства натуры, может быть достоинства. Вчера он дал отдохнуть мне немного. Он почти не говорил обо мне. Мы очень просто и мирно беседовали. Зато накануне он прямо замучил меня. Мне трудно было справиться со всем тем, что он говорил мне, несмотря на то, что я его очень хорошо понимаю. Он уверял меня, что это мне не ново, что я все это уже думала и что если б я и не встретила его теперь, то и сама через год пришла бы к тому же. Надо работать над собой, чтобы достигнуть чудес. Быть сильной духом. Вот для чего это надо! Он говорил, что у меня сила в любви к миру. Что у меня большая любовная сила. Какая-то дрожь……… Он уступил мне первенство. Не случайно, а сказал мне это. И это так…… Это сказочно. Такие прогулки, такое время могут быть только с поэтом. Я думаю как хочу, не по капризу конечно, а так, как необходимо, он не настаивает. Он говорит, что он сам не может от меня уйти и потому просит меня распоряжаться временем. О! Я конечно не могу равнодушно этого слушать! А между тем я кажется и это приняла как должное».
По-моему, это чрезвычайно редкая и яркая зарисовка облика Гумилёва. Ведь это не написанные задним числом воспоминания, а живой, сиюминутный портрет, мгновенная фотография! Такое свидетельство дорогого стоит. И как все это не вяжется с образом, представленным в «комментариях»! Следующая запись в дневнике сделана тогда, когда Гумилёв уже покинул Териоки. Оставалась только одна ночь мирной жизни…
18 июля. Пятница.
«Как много я пережила за эти две недели. Они ни с чем не сравняются. Вчерашний день мог бы кончиться прямо ужасно. Я иногда не понимаю себя. Чего мне нужно? Так нельзя испытывать судьбу. Вчера Гумилёв признался, т.е. объяснился мне в любви. Все это ничего, очень приятно, но это было у него, он просил меня дать ему что-нибудь, я была совершенно в его власти ………… Что меня спасло? Я позволила ему целовать себя. Это гадко. Он думал, что он возьмет меня этим. Что он привяжет меня к себе, что мне это понравится. Он ошибается во мне. Как ошибся тогда с письмом. Вот я за то сразу его поняла. Поняла, что у него программа, поняла, что это гадко. Только почему я отказалась потом от этих предположений. Положим это понятно. Ведь приятно слушать, когда тебя воспевают, когда говорят о духовной красоте. Поняла и то, что он в меня влюбился. Ему нужно мое тело. (Нет! Я понимала свое положение, что не дала ему пощечины!) Это оскорбительно, но это было бы еще более оскорбительно, если бы я стала говорить с ним на эту тему. Я никому не отдам моего тела. Потому что оно принадлежит одному человеку, который даже нежности не просит. А он любил меня. У него была страсть ко мне. Я не сумела ее принять. Я только наслаждалась ею в душе, сама с собой. Я не делилась с ним этим счастьем, я как скупой рыцарь уходила в подвал любоваться переливами драгоценных камней. Где же любовь, где любовная сила моя!..........»

Териоки. Мирный пляж 1914 года.
17 июля была их последняя встреча. Не будем судить поэта слишком строго, да и судить-то не за что. Были ли у него какие-либо «программы» — нам это неведомо. Но совершенно точно известно, из датированного этим же днем письма Ахматовой, что Гумилёв успел вернуться в Петербург и погрузиться в совсем другую жизнь: «Время я провел очень хорошо, музицировал с Мандельштамом, манифестировал с Городецким, а один написал рассказ и теперь продаю его…».
Гумилёв остается верным себе — не уточняя деталей, пишет Ахматовой то, что есть на самом деле. От — «Меланхолия моя, кажется, проходит…», до — «Время я провел очень хорошо…». И это — правда. Последнюю мирную неделю он провел, действительно, хорошо.
Все это не имело ни малейшего отношения к их личным отношениям с Ахматовой, к не существовавшему «драматическому разрыву» и «семейному скандалу», а уж тем более — к «обращению к другу за помощью» и «примирительной роли» Лозинского. Все это — полнейшая чушь! И возвращаться я к этому больше не буду.
Все, что происходило — происходило на реальном «историческом фоне», который вскоре до неузнаваемости переделает весь мир, но, практически никак не повлияет но на то, что связывало и что разделяло Гумилёва и Ахматову. На исходе этих перевернувших мир событий, спустя четыре года, в 1918 году, формально они расстались, что мало отразилось на их отношениях. Это могло случаться как раньше, так и позже, могло и не случится, в любом случае — это ничего не меняет. Свидетельство тому — время. Благо один из них прожил долгую, непростую жизнь, подтверждающую сказанное. Чтобы понять это, достаточно внимательно почитать стихи, записные книжки… Но сейчас речь не об этом, мой дальнейший рассказ о том, что было в реальности с другим участником событий, жить которому оставалось — всего семь лет, из которых четыре года — война, с не придуманными опасностями для жизни, а оставшиеся три «мирных» года завершились расстрелом…
В июле 1914 года узловыми днями, определившими дальнейшее развитие событий в мире, случайным образом совпавшими с описанными фактами биографии поэта, оказались — три дня.
15 июля — Австро-Венгрия объявила войну Сербии, и на следующей день Белград был подвергнут бомбардировке, а в России началась частичная мобилизация.
17 июля — Николай II в 6 часов вечера объявил о начале всеобщей мобилизации, а Германия на следующий день предъявила России ультиматум о ее прекращении в течение 12 часов; ответа не последовало.
19 июля — принятый вечером министром иностранных дел России С. Сазоновым немецкий посол заявил об объявлении Германией войны России. Ровно через месяц был подписан царский указ о переименовании Петербурга в Петроград, но в действующую армию вольноопределяющийся Гумилёв отправился еще из Петербурга.
Последующие несколько дней втянули в войну Францию, Бельгию, Англию — Первая мировая война, или как ее тогда называли, Великая война, началась. Но рассказ пойдет не о глобальных событиях, а о частной жизни всего одного человека, втянутого в эти глобальные события и участвовавшего в них с первого до последнего дня. Как это не покажется странным, такой подход дает возможность понять глобальные события лучше, чем по учебникам. По крайней мере, так было со мной. Когда я начинал заниматься военной биографией Гумилёва (было это в 1980-е годы), честно скажу, Первая мировая война была для меня (уверен, и для большинства) — terra incognita. Думаю и сейчас она остается «белым пятном» отечественной, да и не только отечественной истории. В истинности этого я убедился, когда начал работать в Военно-историческом архиве (РГВИА). Тогда я занимался частной задачей, комментированием «Записок кавалериста» для первого отечественного трехтомника Гумилёва, вышедшего в 1991 году (точнее, чудом успевшего выйти, задержись мы хоть на месяц, и все бы рухнуло, фактически, это было последнее, «предсмертное» издание одного из лучших советских издательств — «Художественная литература»; трехтомник был подписан в печать в августе 1991 года, ровно за неделю до «путча»). Погрузившись в «архивную пыль», я не ограничился «Записками кавалериста», а решил «пройтись» по всей военной биографии поэта. Путешествие это (в том числе — и реальное, по местам событий) оказалось увлекательным, и многое дало не только для того, чтобы открыть для себя новое в биографии и творчестве поэта, но и для того, чтобы лучше разобраться в «глобальных» событиях. Стало понятным и то, почему весь этот период остается «белым пятном» отечественной истории — 99% запрашиваемых дел я открывал первым, с того момента, как они попали в соответствующие архивные описи — карточки выдачи были девственно чисты. А какое написание подлинной истории войны может быть осуществлено без работы в архивах…
Однако, вернемся от глобальных вопросов — к частному, к письму Гумилёва Ахматовой от 17 июля. Фраза «время я провел очень хорошо…» — в дальнейших комментариях не нуждается. Про «манифестировал с Городецким…» тоже все ясно — с 15 июля, с момента объявление войны Сербии, по всей России, более всего — в Петербурге, начались стихийные манифестации, вначале у австрийского посольства, затем по всему городу, завершившиеся разгромом немецкого посольства 23 июля (в котором, по свидетельству Лукницкого, Гумилёв участвовал — Труды и дни, с.243). В одной из таких манифестаций 17 июля принял участие и Гумилёв, вместе с Городецким. Ни у кого не вызывала вопросов фраза — «а один написал рассказ и теперь продаю его…». С тем, что подразумевается рассказ с автобиографической основой и реальными прототипами «Путешествие в страну эфира» я согласен. В рассказе, безусловно отражена поездка в Либаву, встреча с Татьяной Адамович и «эфирный опыт»[31]. Об «эфирном опыте» написано много, и задерживаться на этом факте биографии поэта я не буду. Но на два, ранее никем не отмеченные момента, хочется обратить внимание. Ранее я уже отмечал — Гумилёв в своей автобиографической прозе (сохранилось которой, увы, немного — «Записки кавалериста», «Африканский дневник», рассказ «Африканская охота» и этот рассказ) всегда бывал предельно точен в деталях. Так, про героиню Инну сказано — «фамилия ее была нерусская» (это отмечено не мною). Я хочу обратить внимание на указанную в рассказе дату «опыта» и расставания героев. Опыт с «путешествием» состоялся в субботу, а на следующий день героиня уехала. Рассказ писался «по горячим следам», в Куоккале и Териоках, как знак этого расставания. По письму Бабенчикова (примечание 26) видно, что Гумилёв появился в Куоккале 6 июля. Это было воскресенье. Следовательно, «путешествие» вполне могло состояться в субботу, 5 июля. После чего Гумилёв сразу же сбежал (по рассказу — сбежала героиня) в Петербург, добираться всего одну ночь. И хочется обратить внимание на последнюю фразу написанного в одиночестве рассказа, который он «теперь продает«: «Я пожал плечами и понял, что самая капризная, самая красивая девушка навсегда вышла из моей жизни…» (ПСС-VI, с.117). Очевидный знак расхождения с Адамович и косвенное подтверждение концовки приведенного выше рассказа Ахматовой о «разводе».
Теперь о последнем фрагменте письма — «музицировал с Мандельштамом…». До сих пор эта фраза всех озадачивала. В 1920-е годы Ахматова пыталась выяснить это у самого Мандельштама (Лукницкий-I, с.100): «…Помните открытку — «Манифестировал с Городецким, музицировал с Мандельштамом»? Я спрашивала Мандельштама, что это значит, он не знает и пугается! Таинственная фраза!..». Попытаюсь рассеять эту тайну. У меня есть версия, и опять здесь пригодится дневник Веры Алперс. Не случайно я в «Приложении» даю его в более полном виде, и с не относящимися к Гумилёву фрагментами. Оказывается, с августа 1914 года Мандельштам был частым гостем дома Алперсов, и как раз по «музыкальной части», ведь сама Вера Алперс была музыкантом, очень хорошо играла на фортепьяно. Вот несколько связанных с этим фрагментов ее дневника: «14.08.14. Только что разошлась компания, были: все Бонди, Долинов, Мандельштам. 17.10.14. <…> У нас был Долинов и Мандельштам. Наши были на «Китеже». Я хозяйничала. Занималась музыкой. Я играла сегодня Баха — скверно. <…> Мандельштам говорил, что лучше сыграть невозможно. 30.11.15. <…> Все это устраивает Мандельштам. Ему конечно очень хочется опять попасть к нам, слушать музыку, читать свои стихи…» 14 августа 1914 года — первое упоминание Мандельштама в дневнике, уже после отъезда Гумилёва в армию. Вполне вероятно, что Гумилёв и познакомил их в Териоках. Про любовь к музыке Мандельштама (как и про отсутствие музыкальности у Гумилёва) — хорошо известно. Поэтому фраза Гумилёва «музицировал с Мандельштамом…» вполне может носить иронический характер, подразумевающий совместный визит к Вере Алперс со слушанием музыки, по желанию Мандельштама. В приведенных выше фрагментах дневника его имя не упоминается, все записи посвящены Гумилёву, но видно, что их общение не ограничивалось «интимными свиданиями», были прогулки, встречи с разными людьми… Это, конечно, только версия, но вполне вероятная, учитывая плотность времени и места — с 10 по 17 июля, Териоки, и постоянное общение в эти же дни с автором дневника. Мандельштам этого вполне мог и не запомнить, а пугался, потому что хорошо знал о «любви» Гумилёва к музыке (не с Гумилёвым же он «музицировал»!). Понятно и то, что сам Гумилёв прямо (с подробностями) рассказать об этом Ахматовой не мог…
Прежде чем покинуть вместе с Гумилёвым Териоки и рассказать о его последних мирных днях, я приведу все касающиеся Гумилёва выдержки из дневника Веры Алперс. Мне кажется это важным для того, чтобы представить его «психологический портрет» — со стороны. Записи охватывают все сохранившиеся тетрадки, до конца 1915 года. За все это время встретились они лишь однажды, да и то — случайно… Комментировать (и «купировать») записи эти — не буду.
20 июля. Воскресенье. 1914 г.
Война, война. События надвигались серьезные. Бежать, пожалуй, придется. В Петербурге плач и стон. Всех забирают. Запасных, ратников, вся гвардия идет. Война какая-то слепая. Мне она напоминает 1812 год. Все это так близко. Самое скверное это то, что папа из Кисловодска еще не приехал.
Мы не знаем, что делать. Ехать ли в ПБ или оставаться здесь. А я странная. Днем — война, говорю о ней, даже думаю иногда. А зато к ночи и утром просыпаясь, вся отдаюсь мечтам. Думаю о Прок<офьеве>. Гумилёв дал мне намек на чувства и отношения, о которых я только могла подозревать. И потом благодаря ему я как-то больше поняла Прок<офьева>. Ведь он никогда ничего не говорил мне о своих чувствах, откуда же я могла знать. И я, я тоже самое, откуда же он мог знать! А теперь я прямо брежу им. А его еще на войну возьмут. Да, наверное, наверное. Неужели не пришлет мне ни строчки, если уйдет куда-нибудь… Неужели ни одного слова не найдется для меня у любимого, но не милого! Боже мой! Это мучительно. Чувствовать человека и не иметь его, ведь даже вспомнить нечего. Нельзя ни одним моментом упиться, переживая. Все время не хватало, не хватало чего-то. — А ведь Гумилёв, пожалуй, прав, что я первую неделю «сразбега», буду молиться, чтоб его убили, а потом даже не захочу этого. То есть потом я наверно забуду об нем. Он пугал меня, что будет преследовать меня зимой, что будет требовать, чтоб мы видались, и что сильное желание победит все. Я не разубедила его, я только говорила, что требовать любви нельзя. Я все-таки не верю ему. Он мне говорил, что он меня любит, что он меня чувствует. Холодный он человек все-таки. Хотя я чувствовала его страсть, только она скоро пройдет у него. (В этом фрагменте важны не личные переживания девушки, а свидетельство о том, что еще до отъезда из Териок, 17 июля, Гумилёв сообщил ей о своем желании идти на фронт. Это — самое первое документальное подтверждение его намерений! Заметим, что официального объявления войны еще не было, и Ахматовой в тот же день, уже после расставания с Верой Алперс, он ничего об этом не написал.)
Сколько счастья мог бы дать мне Прок<офьев>. А он разве не был бы счастлив лаская меня! Ведь он бы чувствовал, как я отдаюсь его ласкам, с каким наслаждением!
26 июля. Суббота. 1914 г.
Страшно быстро пролетела эта неделя.
Неужели доктор ко мне неравнодушен? Вчера он с нежностью иногда смотрел на меня, и потом он ловит мои движения. Это очень приятное чувство. Как будто ни одно движение не пропадает, а находит себе определенный смысл. В таких случаях я становлюсь очень скупой на движения. Это хорошо. Гумилёв меня избаловал. Мне как-то все разговоры кажутся неинтересными. Вчера я говорила с Долиновым, мы сидели в общественном парке. (На что Вяч. Пав. была кажется в большой претензии и даже зла на меня). Мы говорили о поэзии, о поэтах. Наверно ему было скучно. Долинов мне нравится. Только я отношусь к нему как к младшему, в душе, конечно. Мне нужно с ним играть немножко, кокетничать насколько я могу, не нужно просто хорошо относиться. Для него это скучно. А я хочу ему нравиться. Вот странно. Я его тоже боюсь немножко. Я готова при первом случае, намеке спрятаться в свою раковину. Почему к Гумилёву у меня этого нет. Я его не боюсь, я ему верю. Или он действительно хороший человек или же он хитрый и сумел заставить меня верить ему. Конечно последнее вернее. Для меня это скверно.
28 июля. Понедельник. 1914 г.
Я влюблена. Так я еще не была влюблена. Долинов раздражает меня, дразнит. Когда я сидела вчера рядом с ним, мне стоило некоторых усилий, чтобы остаться сидеть на расстоянии, чтобы не прижаться к нему. Вчера я чувствовала, что у меня загораются глаза. Я старалась не смотреть не него. Хотя это конечно смешно. Почему стараться не смотреть, почему не сесть ближе в лунную ночь, на берегу моря! Только мне хочется, чтобы и ему этого захотелось. А он по-видимому очень спокоен. Ему приятно быть со мной, только у него нет никакого волнения. Впрочем он человек бывалый и опытный, не будет волноваться понапрасну! И мне нужно начать обороняться и потом перейти в наступление, а то может быть плохо. Может быть он отлично чувствует мое отношение, замечает, как у меня иногда понижается голос — и нарочно дразнит меня, не подходит. Я сегодня вспомнила слова Гумилёва. «Как иногда бывает хорошо и странно жить!» Это признак.
9 августа 1914 г. Суббота.
Я на ночь полюбила читать Блока. Читать, плакать над ним, томиться… Днем он мне кажется другим. Мне нравится совсем уже другое. Он скорее ночной. Да, он ведь и говорит, что посвящает свою книгу… ох, ведь она и называется «Снежная Ночь». А я ночь люблю. Ночью люди другими бывают.
Я вспомнила слова Гумилёва на днях, что нужно самому творить жизнь, и что тогда она станет чудесной. Я это знаю, у меня иногда бывают такие моменты, я носила в своей душе какой-то мир, и вместе с тем я жила внешним миром, но я его как-то перетворяла. Это не чушь, это чудесно. Но только для этого надо жить. Я ошибалась, когда думала, что если я делаюсь равнодушной и вялой к окружающей жизни, то я живу внутренно. Это не верно. Это просто я застывала.
24 августа 1914 г. Воскресенье.
Я так устала сегодня. Мне даже кажется, что я больна. Сегодня мы в Павловске были. Насколько там хорош парк, настолько отвратительна тамошняя публика. Что-то пыльное, городское, изломанное…
Ну Бог с ней. — Я весь день занята Гумилёвым. Почему-то сегодня пришлось много говорить о нем. Соловьем рассказывала о нем, потом по дороге в Павловск встретила Бушен с братом[32]. Опять его вспоминали…
27 августа 1914 г. Среда.
Вчера была у Бонди. Видела Мейерхольда. Он очень мил со мной и как-то серьезен. Говорил, что соскучился обо мне. Вот кто может вскружить голову. Я еще не в безопасности. Но зато я и сама теперь могу играть. Гумилёв много мне дал, и многому научил меня. У меня теперь другое отношение к мужчинам. Мне кажется, что Мейерхольд заметил это, хотя он ничего не сказал мне, но он так наблюдал за мной, тихонько и не только из кокетства.
18 октября 1914 г. Суббота.
Вот отчего меня так тянуло на Невский сегодня. Прок[офьев] там был. Мама встретила его. А я опоздала. Боже мой, как я хочу его видеть. Гумилёв говорил, что если девушка и вспоминает Бога, когда думает о своей любви, если и молится ему — то ошибается. А по-моему он не прав. Любовь ведь это радость. О радости разве нельзя молиться? Ведь я страдаю вот теперь. Как же мне не молиться? И это страдание не только тоска.
4 декабря 1914 г. Четверг.
Ах это ужасно! Это так томительно. Я чувствую, что я вяну, сохну не физически, а нравственно. Гумилёв спрашивал меня, чего мне не хватает. Я никак не могла понять, что мне ответить. Я сама не могла понять, чего мне не хватает, мне казалось наоборот, что у меня есть что-то лишнее, с чем мне нужно расстаться (это конечно Прок[офьев]). Теперь я знаю, что мне действительно не хватает чего-то. Не хватает солнца, света, тепла. Я в тени, ни один луч еще не упал на меня, не проник ко мне. Что мне делать со своим сердцем? Взять и разбить его как пустую, ненужную вещь? Я ходила сейчас гулять по Каменному острову. Я так завидовала этим парочкам, исчезавшим на острове… <…>
11 октября 1915 г. Воскресенье. (Скорее всего, первая встреча с Гумилёвым после июля 1914 г.)
<…> А у меня мысли роем кружатся в голове, и радость иногда охватывает меня. Сегодня мне приятно было; мне кланялся Гумилёв. Хотя это даже неприятно может быть, как-то уж очень значительно, поклон — как будто краткое одобрение мне и привет. Фокусник. Но мне было приятно.
Я иногда бываю ужасно недовольна своим дневником. Очень уж редки в нем мысли, все чувства. А между тем я иногда высказываю недурные мысли в разговорах… <…>
10 ноября 1915 г. Вторник.
Я в себе чувствую какие-то силы дремлющие, какая-то атмосфера насыщенности меня охватывает. И это не моментами, а целыми днями. Но я сижу, думаю, дремлю, отвлекаюсь, но привыкла сдерживать себя. Да и что же я сделать могу? Сегодня утром я думала о Бушен и о себе. У меня есть какая-то вера. Самая простая и наивная вера в Бога, которому я могу обо всем молиться. Я раньше скрывала это, я думала, что это скучно, потом я не знала, что и о любви я могу молиться Ему же… Во всем этом меня как-то поддержал Гумилёв. Он сам или любит Бога или привык Его любить, но он как-то часто и легко упоминал о Нем. Да, что ж мне остается делать? Молиться, любить и надеяться? Это не безумие, не сомнамбулизм, мне хочется любви, счастья. Настоящего счастья…
30 ноября 1915 г. Воскресенье.
Сегодня какой-то особенный день, все меня волнует. Борис (брат Веры Алперс — прим. Степанова) сегодня уехал в Царское к Гумилёву, образуется какое-то новое общество поэтов. Только он успел уехать, как звонит Чеботарев[ская], говорит, что ей Борис нужен сегодня по делу, непременно сегодня. Я за Бориса ужасно рада. То что его Гумилёв пригласил — очень хорошо. Пускай даже тут будут какие-нибудь убыли, не все ли равно. Все это устраивает Мандельштам. Ему конечно очень хочется опять попасть к нам, слушать музыку, читать свои стихи. И не нужно отнимать у него эту надежду, если он может быть полезен. Я так рада теперь за Бориса. Он отошел от студии, появились свои интересы. А в студии он был ничьим, сам не актер, а так, поклонник талантов. Пускай сначала все это туго дается, все эти общества ему еще чужды, но они, эти общества его искусства, а не чужого. А нужно завоевать себе положение.
Больше имя Гумилёва в этих тетрадях дневника не упоминается.
На этом заканчиваю «лирическую часть» и перехожу в военным будням. 17 июля Гумилёв вернулся в Петербург и остановился у Шилейко на Васильевском острове, 5-я линия, 10. Заметим, что этот же адрес под именем Гумилёва Н. С. , советника ОРХС, значится в справочнике «Весь Петербург» на 1915 г.

Последний «мирный» адрес Гумилёва — 5-я линия Васильевского острова, 10.
«Неофициальная» мемориальная доска на этом доме, 2 мая 1984 года — провисела 3 дня.
Как уже было сказано, Гумилёв с Городецким и Шилейко участвовал в манифестациях в поддержку сербов. Еще 17 июля он написал Ахматовой в Слепнево, что выезжает к ней. Но бурное развитие событий задержало его в городе на несколько дней, и уезжал он в Слепнево уже после начала войны, с твердым решением — идти на фронт, а перед этим забрать всю семью домой. Ахматова получила письмо 19 июля. 20 июля был опубликован «Высочайший манифест». В июльском номере «Русской мысли» были опубликованы последние «мирные» стихи поэта, а 20 июля Гумилёв написал свое первое «военное» стихотворение, «Новорожденному», посвященное родившемуся 19 июля сыну М. Лозинского Сереже:
Вот голос томительно звонок —
Зовет меня голос войны, —
Но я рад, что еще ребенок
Глотнул воздушной волны.
Он будет ходить по дорогам
И будет читать стихи,
И он искупит пред Богом
Многие наши грехи.
Когда от народов — титанов,
Сразившихся, — дрогнула твердь,
И в грохоте барабанов,
И в трубном рычании — смерть, —
Лишь он сохраняет семя
Грядущей мирной весны,
Ему обещает время
Осуществленные сны.
Он будет любимец Бога,
Он поймет свое торжество,
Он должен! Мы бились много
И страдали мы за него.
23 июля Гумилёв приехал в Слепнево. 24-25 июля вся семья вернулась в Петербург. На один день остановились у Шилейко на Васильевском острове. 24 июля газеты опубликовали «Правила о приеме в военное время охотников на службу в сухопутные войска». На следующий день Гумилёв с Ахматовой уехали домой, в Царское Село, и Гумилёв начал собирать необходимые документы для поступления на военную службу. Следует напомнить, что при призыве в 1907 году, даже вытянув жребий об обязательном поступлении на воинскую службу, он был 30 октября того же года «признан совершенно неспособным к военной службе, а потому освобожден навсегда от службы…»[33]. Поэтому ему было непросто вторично пройти медицинскую комиссию. Но все-таки 30 июля он получил следующий документ (рукописный, скрепленный сургучной печатью):
«Свидетельство №91. Сим удостоверяю, что сын Статского Советника Николай Степанович Гумилёв, 28 л. от роду, по изследованию его здоровья оказался неимеющим физических недостатков, препятствующих ему поступить на действительную военную службу, за исключением близорукости правого глаза и некоторого косоглазия, причем, по словам г. Гумилёва, он прекрасный стрелок. Действительный Статский Советник Доктор Медицины Воскресенский. 30 июля 1914 года»[34].
Правила приема охотников требовали получения свидетельства «об отсутствии опорачивающих обстоятельств, указанных в статье 4 сих правил». Такой документ был выдан Гумилёву 31 июля полицией Царского Села (отпечатан на машинке, на бланке: «Министерство Императорскаго Двора. Полиция города Царское Село. 31 июля 1914 г. №9604. Г. Царское Село; скреплено гербовой печатью полиции Царского Села):
«СВИДЕТЕЛЬСТВО. Дано сие Сыну Статского Советника Николаю Степановичу Гумилёву, согласно его прошения, для предоставления в Управление Царскосельскаго Уезднаго Воинскаго Начальника, при поступлении в войска, в том, что он за время проживания в гор. Царском Селе поведения образа жизни и нравственных качеств был хороших, под судом и следствием не состоял и ныне не состоит и ни в чем предосудительным замечен не был. Что полиция и свидетельствует. Подписи — Полицмейстер, Полковник Новиков и Письмоводитель Кудрявцев»[35]
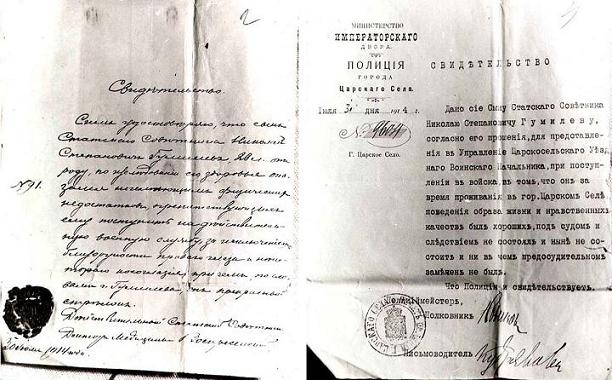
Свидетельства о здоровье и благонадежности, выданные Гумилёву
К началу августа все документы были собраны и сданы в воинское присутствие. Из приложенной к «Делу» фотографии видно, что фотографироваться Гумилёв не любил — к «воинскому делу» была приложена та же самая фотография, которая сохранилась в университетском деле 1912 года. На обороте запись: «Звание Сына Статского Советника Николая Степановича Гумилёва свидетельствую. Далее дата — 2 октября 1912 г., подпись (неразборчиво), печать и №2362».

Фотография из «Дела» Гумилёва в РГВИА, ф.3549, оп.1, д.284.
5 августа Гумилёв был уже в военной форме. В этот день они с Ахматовой встретили на Царскосельском вокзале А. Блока. «…А вот мы втроем (Блок, Гум<илев> и я) обедаем на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гум<илев> уже в форме), Блок в это время ходит по женам мобилизованных для оказания помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт. Ведь это то же самое, что жарить соловьев». (Записные книжки Ахматовой, с.672). Точную дату удалось установить по «Записным книжкам» Блока: запись от 5 августа 1914 г.: «Встреча на Царскосельском вокзале с Женей, Гумилёвым и Ахматовой…» Это последнее датированное событие до отъезда Гумилёва в действующую армию.
Видимо, Гумилёв сразу же попросился в кавалерию, и его определили в Гвардейский запасной кавалерийский полк, в котором готовили кавалеристов для гвардейских кавалерийских полков, составивших 1-ю и 2-ю гвардейские кавалерийские дивизии. Первый обнаруженный военный документ, в котором встречается имя Гумилёва — Приказ №227 от 14 августа 1914 года по этому полку[36]:
§ 6
Охотников, ниже сего поименованных, назначенных уездными воинскими начальниками и прибывших во вверенный мне полк, зачислить в списки 2-х маршевых эскадронов нижеуказанных запасных эскадронов и на довольствии числить при соответствующих запасных эскадронах, согласно прилагаемого списка (далее длинный список в виде таблицы).
| № п/п | Каких запасных эскадронов маршевые эскадроны | Имена и фамилии | С какого числа подлежит зачислению на довольствие |
| Из Царского Села: |
| 5 | 6 | Николай Гумилёв | С 13 августа |

Кречевицкие Казармы. «Большой тюрьмы белесое строенье…»
Гумилёв был назначен в 1-й маршевый эскадрон Лейб-Гвардии Уланского полка, которому предстояло пройти месячную подготовку в Гвардейском запасном кавалерийском полку, располагавшемся в Кречевицких Казармах — небольшом поселке на реке Волхов, ниже Новгорода. До сих пор на том же самом месте размещается военный городок, в котором сохранились явно дореволюционные казарменные постройки, старинные аллеи, по которым разъезжали кавалеристы. У Лукницкого ошибочно указано, что в кавалерийский полк Гумилёв записался со своим племянником, африканским спутником Колей Сверчковым. Возможно, такая попытка была, на что указывает его мать и сестра Гумилёва Александра Степановна Сверчкова, но она же и добавляет, что его «по слабости легких оставили в тылу». Позже он все-таки попал на фронт, но рядом с Гумилёвым его имя нигде не обнаруживается. Брат Гумилёва Дмитрий, как военнообязанный запаса, был призван 21 июля 1914 г., вначале в 146 пехотный Царицынский полк, а 9 августа 1914 года переведен в 294 пехотный Березинский полк и назначен там Полковым Адъютантом[37]. Дмитрий Гумилёв, служивший ранее с 1906 по 1910 годы, начинал войну в офицерском звании, в отличие от рядового необученного брата.
Из Кречевицких Казарм — первое военное письмо домой (ПСС-VIII, №137). Оригинал письма[38] написан черными чернилами на открытке без рисунка. На лицевой стороне (горизонтально) надпись и адрес: Всемирный почтовый Союз. Россия. Открытое письмо. Текст письма — слева на лицевой стороне и на противоположной стороне (вертикально). В конце письма карандашная (архивная или Ахматовой?) пометка — из Новгорода 1914. Адрес с правой стороны: Царское Село. Малая 63. А. Ахматовой. В верхнем правом углу штемпель — Для пакетов. Гвардейский Запасной кавалерийский полк (без даты). Над адресом штемпель получателя — Царское Село 6.9.14.
«Дорогая Аничка (прости за кривой почерк, только что работал пикой на коне — это утомительно), поздравляю тебя с победой. Как я могу рассчитать, она имеет громадное значенье и может быть мы Новый Год встретим как прежде в Собаке. У меня вестовой, очень расторопный, и кажется удастся закрепить за собой коня, высокого, вороного, зовущегося Чернозем. Мы оба здоровы, но ужасно скучаем. Ученье бывает два раза в день часа по полтора, по два, остальное время совершенно свободно. Но невозможно чем-нибудь заняться, т.е. писать, потому что от гостей (вольноопределяющихся и охотников) нет отбою. Самовар не сходит со стола, наши шахматы заняты двадцать четыре часа в сутки и хотя люди в большинстве случаев милые, но все же это уныло. Только сегодня мы решили запираться на крючок, не знаю, поможет ли. Впрочем нашу скуку разделяют все и мечтают о походе как о Царствии Небесном. Я уже чувствую осень и очень хочу писать. Не знаю, смогу ли. Крепко целую тебя, маму, Леву и всех. Твой Коля».
Рассказ Лукницкого о начале воинской службы Гумилёва, который приводится в комментариях к этому письму, грешит неточностями, поэтому повторять его не буду. Очевидно, что двух отлучек из Новгорода в Царское Село не было и не могло быть. Все отлучки четко фиксируются в приказах, они редки, а уж в первый месяц службы — невозможны! И Коли Сверчкова там не было — в комментариях его перепутали… с конем Черноземом. Конь, возможно, был личный, слепневский — в кавалерию, как правило, зачисляли с собственным «транспортным» обеспечением. («Мы оба здоровы, но ужасно скучаем…»). Первые месяцы воинской службы Гумилёв воспринимал чрезмерно восторженно, но уже в начале января 1915 года отношение к войне резко изменится. Под упоминаемой в письме победой Гумилёв, видимо, подразумевал успехи на Юго-Западном фронте, в Галиции, взятие в конце августа Львова и Галича армией А. Брусилова. И одновременные успехи англо-французских армий на Марне, разбивших немцев под Парижем. В тот момент, действительно, считалось, что взятие Берлина — не за горами…В «Бродячую собаку» Гумилёв попадет, но не на Новый год, а в конце декабря 1914 года, после многочисленных боев, за один из которых ему вскоре вручат первый Георгиевский крест, уже поняв, что война затянется надолго.
Но пока лично Гумилёва все эти победы и поражения не касались, учения продолжались почти до конца сентября, более месяца. Вскоре после отправки письма его там навестила Ахматова.
Пустых небес прозрачное стекло,
Большой тюрьмы белесое строенье
И хода крестного торжественное пенье
Над Волховом, синеющим светло.
Сентябрьский вихрь, листы с березы свеяв,
Кричит и мечется среди ветвей,
А город помнит о судьбе своей:
Здесь Марфа правила и правил Аракчеев.
Новгород, 1914.

Кречевицкие Казармы. Старинная аллея военного городка на берегу Волхова.
О пребывании в Запасном полку сохранились воспоминания Ю. В. Янишевского[39]. Написанные спустя 40 лет, не во всем точные («стеклянного глаза» у Гумилёва никогда не было!), они все-таки представляют интерес. Военных воспоминаний его сослуживцев сохранилось ничтожно мало. Все они, до сих пор известные, были опубликованы Г. Струве в Вашингтонском четырехтомнике, и я в дальнейшем их приведу, с соответствующими комментариями.
«С удовольствием сообщу … все, что запомнилось мне о совместной моей службе с Н. С. Гумилёвым в полку Улан Ее Величества. Оба мы одновременно приехали в Кречевицы (Новгородской губернии) в Гвардейский Запасной полк и были зачислены в маршевый эскадрон лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка. Там вся восьмидневная подготовка состояла лишь в стрельбе, отдании чести и езде. На последней больше 60 % провалилось и было отправлено в пехоту, а на стрельбе и Гумилёв, и я одинаково выбили лучшие и были на первом месте. Стрелком он оказался очень хорошим, хотя, имея правый глаз стеклянным, стрелял с левого плеча. Спали мы с ним на одной, двухэтажной койке, и по вечерам он постоянно рассказывал мне о двух своих африканских экспедициях. При этом наш взводный унтер-офицер постоянно вертелся около нас, видимо заинтересованный рассказами Гумилёва об охоте на львов и прочих африканских зверюшек. Он же оказался потом причиной немалого моего смущения. Когда наш эскадрон прибыл на фронт, в Олиту, где уланы в это время стояли на отдыхе, на следующий день нам, новоприбывшим, была сделана проверка в стрельбе. Лежа, 500 шагов, грудная мишень. Мой взводный, из Кречевиц, попал вместе со мной в эскадрон № 6 и находился вместе с нами. Гумилёв, если не ошибаюсь, назначен был в эскадрон № 3. Я всадил на мишени в черный круг все пять пуль. Командир эскадрона, тогда ротмистр, теперь генерал Бобошко, удивленно спросил: «Где это вы научились стрелять?» Не успел я и ответить, как подскочил тут же стоявший унтер-офицер: «Так что, ваше высокоблагородие, разрешите доложить: вольноопределяющийся — они охотник на львов…» Бобошко еще шире раскрыл глаза. «Молодец…» — «Рад стараться…»
Гумилёв был на редкость спокойного характера, почти флегматик, спокойно храбрый и в боях заработал два креста. Был он очень хороший рассказчик, и слушать его, много повидавшего в своих путешествиях, было очень интересно. И особенно мне — у нас обоих была любовь к природе и к скитаниям. И это нас быстро сдружило. Когда я ему рассказал о бродяжничествах на лодке, пешком и на велосипеде, он сказал: «Такой человек мне нужен; когда кончится война, едем на два года на Мадагаскар…» Сам понимаешь, как по душе мне было его предложение. Увы! все это оказалось лишь мечтами…»
Про Кречевицы и маршевый эскадрон Уланского полка — все точно. Об Олите будет рассказано в следующих «Комментариях». Имя Янишевского, как вольноопределяющегося 6-го эскадрона, неоднократно упоминается в документах Уланского полка. Только небольшая неточность в фамилии командира — командиром 6-го эскадрона был Лев Александрович Бобышко[40]. Ошибся Янишевский только в номере эскадрона Гумилёва: Гумилёв был определен в 1-ый, или, как его называли, эскадрон Ея Величества (ЕВ), командовал которым ротмистр князь Илья Алексеевич Кропоткин. Совместная служба Янишевского с Гумилёвым продолжалась более полутора лет. Но это все впереди…
Как уже было сказано, в конце августа Гумилёв был определен во 1-ый маршевый эскадрон Лейб-Гвардии Уланского Ея Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка, который отправился на позиции 23 сентября. Эскадрон прибыл в полк 30 сентября. В приказе №76 по Уланскому полку от этого числа сказано: «§2. Прибывших нижних чинов 1-го маршевого эскадрона унтер-офицерского звания — 2, из которых один сверхсрочной и один действительной службы, младших унтер-офицеров — 28, вольноопределяющихся унтер-офицерского звания — 3, ефрейторов — 20, фельдшеров — 2 и нижних чинов и вольноопределяющихся рядового звания — 124, зачислить на жалованье согласно аттестата за №4512 от 24 августа 1914 года[41]». Именно эта дата занесена в известный «Послужной список»[42] Николая Гумилёва и ее ошибочно считали датой прибытия Гумилёва в полк. Приказ подписан командующим Уланским полком полковником Д. М. Княжевичем. Одним из 124 вольноопределяющихся рядового звания был Николай Гумилёв.

Гумилёв в форме Уланского полка, снимок 1914 года, до награждений.
О начале его службы в Уланском полку, об участии в первых боях, о первом Георгиевском кресте, о начале «Записок кавалериста» — в следующем выпуске, с документами и фотографиями.
Ниже приводятся все сделанные мною выписки из дневников Веры Алперс, смотрите примечание 28. Записи, касающиеся упоминаний Гумилёва, Мандельштама, Долинова, Бушен прокомментированы выше. Подробно комментировать весь дневник не входило в мои планы, здесь он представлен как любопытный частный документ, своеобразно отображающий исторические события на фоне личных переживаний молодой девушки.
Тетрадь №2
25.06.1912 <понедельник>
В четверг <… — 21.06.1912> <…> мне исполнилось 20 лет.
(Летние записи 1912 г. — увлечение В. Мейерхольдом в Териоках; 7 августа Мейерхольд уехал. Постоянный флирт с С. Прокофьевым.).
В записи от 8.10.1912 упоминается Ольга Николаевна Высотская (смотрите «Неакадемические комментарии-3»).
<…>
Тетрадь №3 (с 15 марта по 8 декабря 1914 года)
21 июня. Суббота.
Мне говорят, что я похожа на поэтессу, что мне очень бы пошло писать стихи. Мне это очень понравилось (хотя это говорила женщина, и притом женщина глупая, но мне это говорил и Мейерхольд). Я стала читать свой дневник, хотела найти в нем стихи в прозе (!), но увы, их почти нет. Если б я писала стихи, то наверно плохие.
Я иногда хорошо говорю — это правда. Только и это случается редко. Я хотела бы влюбиться. Я совсем бы влюбилась в этого немца Теприхсена, да вчера это появление Бориса Степан. все дело испортило. Во-первых, я увидела, что рядом с Захаровым он не выдерживает никакой критики, во-вторых, вчерашняя встреча перенесла меня совершенно в другой мир. (Речь здесь идет о соученике С. Прокофьева по классу А. Н. Есиповой Борисе Степановиче Захарове, 1887 — 1942. — Прим. Степанова; подробнее о нем, а также о дружбе и переписке Веры Алперс и Сергея Прокофьева, смотрите — http://rusfno.boom.ru/st/Pr_Kop01.html)
Какой я все-таки равнодушный холодный человек. Какая-то разочарованная. Жизни во мне нету, вернее, интереса к жизни нет. Безнадежно влюбленная. Что может быть скучнее.
12 ч. ночи. Так тихо день кончился сегодня. Молитвенно тихо.
26 июня. Четверг.
Мне кажется, что я начинаю скучать о Прок<офьеве>. Сегодня я вынула кусочек его рукописи. Мне вспомнился тот день, я почувствовала его прикосновение ко мне. Они были похожи на объятия, эти прикосновения. Я люблю тебя. Почему ты так избегал каких бы то ни было объяснений. Ведь они могли так много выяснить. Ты боялся, что я скажу тебе? Или ты меня просто мучить хочешь? Я не верю, что ты боялся меня огорчить. Ты не такой.
Что мне теперь делать с Кисловодском — я не знаю. Конечно, я там не отдохну, не развлекусь. Иногда мне кажется, что надо выдержать, не надо ездить. Иногда у меня является надежда вылечиться, забыть его, иногда даже мне кажется, что я его вовсе не люблю. Только это неправда. Когда мне это кажется, то я несознательно отношусь. Это так. Затемненье. Я просто баюкаю себя. Но зато когда меня охватывает тоска. О! Тогда я знаю, что я люблю его. Я чувствую это мучительно ясно. Я с большой силой возвращаюсь к оставленным думам, к милому, к ненавистному призраку. Моя душа трепещет как в тисках.
А от него ни строки. Неужели он не думает никогда обо мне. Неужели я не снюсь ему больше.
2 июля. Среда.
У меня какое-то странное настроение. Болит голова, как будто холодно немножко, но в то же время мне весело и я никак не могу лечь спать. Ну никак не могу. Мне хочется думать, о чем-то мечтать…
4 июля. Пятница.
Ужасно скверное настроение сейчас у меня. Меня Долинов раздражает. Говорит, и не поймешь, почему он говорит так. Кажется не то он издевается, смеется надо мной, не то серьезно… Противная манера. Точь в точь как Борис. Только у Бориса больше задора, он в тоже время ухаживает, а у Долинова так равнодушно, спокойно. Он меня злит. И злит еще потому, что мне он мог бы понравиться, мне хочется, чтобы он ухаживал за мной. Он и теперь ухаживает, но: или он осторожен со мной, или ему начинает казаться скучным.
7 июля. Понедельник. 1914.
Душно мне сегодня. Дышать нечем. И вчерашним «кабарэ» я недовольна (про «кабарэ» 6 июля смотрите выше: если Гумилёв уже был в Териоках 6 июля, то он мог в театре впервые познакомиться с Верой Алперс, через знакомого ему поэта Михаила Долинова). Недовольна Долиновым. Он мне нравится. И он меня злит, раздражает. Мне нравится его манера «быть милым», но я сама как-то слишком далеко держусь с ним.
9 июля. Среда.
Вчера было очень весело. Долинов мне нравится. Только я еще не знаю кто больше, он или доктор. Впрочем мне с ним веселее.
11 июля. Пятница.
Опять зной нестерпимый.
Интересные дни были последнее время. Вчера я сделала глупость конечно, согласившись пойти с Гумилёвым в отдельный кабинет. Какова смелость! Черт знает что такое! Пожалуй я слишком уверена в себе. Такие штуки опасны очень. Вела я себя великолепно. Он конечно влюблен в меня. И я это чувствовала, Откровенно говоря я трусила. Я даже посмотрела на задвижки окон… Разговор был очень интересный. В общем все это довольно гадко. Он мне совершенно не нравится. Конечно приятно покорить людей хоть на время, только долго возиться с ними неинтересно.
Вчера был страшно хороший день. После обеда мне так весело было играть в теннис с Долиновым. Мы как дети играли. А когда стемнело, я сидела с доктором у моря. Он очень интересный. Он пожалуй лучше всех. Наши все смеялись над моим поведением. Папа даже назвал меня «Незнакомкой». (Впрочем они тогда еще не знали про отдельный кабинет!) Сегодня мама была удивлена и даже огорчена немного, и сказала, что теперь она ожидает от меня всего. Это ужасно. Конечно это было легкомысленно. Но странно: у меня есть какая-то сила отдалять людей, не давать им повода не только к фамильярностям, но даже к намеку о фамильярности. Я верю в эту силу и мне приятно ее иногда испытывать.
Ну будет об этом. Тут конечно может быть сплетня, а может и ничего не быть. Во всяком случае я с Гумилёвым буду осторожна. Дальше нельзя так продолжать. Вчера он говорил, что я должна ему написать письмо. Я была искренне удивлена и конечно не подумала ни писать, ни говорить с ним об этом. У него идет вполне определенная игра и намеренность меня завлечь. Но это ему не удастся. Я вижу его программу. И эти книги… стихи…
14 июля. Понедельник.
Стыдно, стыдно писать такие вещи. Причем тут программа, причем тут игра. Этот человек может помочь мне воспитать саму себя. Я столько узнала о себе за последние дни, я точно вступила в другой мир, мне открылась возможность иной, внутренней жизни, внутренней работы. Я знаю: мне этого не хватало. Я знала, что нужно что-то делать с собой. Но я не знала, над чем мне нужно работать. Я не знала части своих недостатков. И потом я не знала, действительно ли это недостатки. Я думала, что это может быть свойства натуры, может быть достоинства. Вчера он дал отдохнуть мне немного. Он почти не говорил обо мне. Мы очень просто и мирно беседовали. Зато накануне он прямо замучил меня. Мне трудно было справиться со всем тем, что он говорил мне, несмотря на то, что я его очень хорошо понимаю. Он уверял меня, что это мне не ново, что я все это уже думала и что если б я и не встретила его теперь, то и сама через год пришла бы к тому же.
Надо работать над собой, чтобы достигнуть чудес. Быть сильной духом. Вот для чего это надо!
Он говорил, что у меня сила в любви к миру. Что у меня большая любовная сила. Какая-то дрожь…
Он уступил мне первенство. Не случайно, а сказал мне это. И это так.
Это сказочно. Такие прогулки, такое время могут быть только с поэтом. Я думаю как хочу, не по капризу конечно, а так, как необходимо, он не настаивает. Он говорит, что он сам не может от меня уйти и потому просит меня распоряжаться временем. О! Я конечно не могу равнодушно этого слушать! А между тем я кажется и это приняла как должное.
18 июля. Пятница.
Как много я пережила за эти две недели. Они ни с чем не сравняются. Вчерашний день мог бы кончиться прямо ужасно. Я иногда не понимаю себя. Чего мне нужно? Так нельзя испытывать судьбу. Вчера Гумилёв признался, т.е. объяснился мне в любви. Все это ничего, очень приятно, но это было у него, он просил меня дать ему что-нибудь, я была совершенно в его власти ……. Что меня спасло? Я позволила ему целовать себя. Это гадко. Он думал, что он возьмет меня этим. Что он привяжет меня к себе, что мне это понравится. Он ошибается во мне. Как ошибся тогда с письмом. Вот я за то сразу его поняла. Поняла, что у него программа, поняла, что это гадко. Только почему я отказалась потом от этих предположений. Положим это понятно. Ведь приятно слушать, когда тебя воспевают, когда говорят о духовной красоте. Поняла и то, что он в меня влюбился. Ему нужно мое тело. (Нет! Я понимала свое положение, что не дала ему пощечины!) Это оскорбительно, но это было бы еще более оскорбительно, если бы я стала говорить с ним на эту тему. Я никому не отдам моего тела. Потому что оно принадлежит одному человеку, который даже нежности не просит. А он любил меня. У него была страсть ко мне. Я не сумела ее принять. Я только наслаждалась ею в душе, сама с собой. Я не делилась с ним этим счастьем, я как скупой рыцарь уходила в подвал любоваться переливами драгоценных камней. Где же любовь, где любовная сила моя!….
20 июля. Воскресенье. 1914 г.
Война, война. События надвигались серьезные. Бежать, пожалуй, придется. В Петербурге плач и стон. Всех забирают. Запасных, ратников, вся гвардия идет. Война какая-то слепая. Мне она напоминает 1812 год. Все это так близко. Самое скверное это то, что папа из Кисловодска еще не приехал.
Мы не знаем, что делать. Ехать ли в ПБ или оставаться здесь. А я странная. Днем — война, говорю о ней, даже думаю иногда. А зато к ночи и утром просыпаясь, вся отдаюсь мечтам. Думаю о Прок<офьеве>. Гумилёв дал мне намек на чувства и отношения, о которых я только могла подозревать. И потом благодаря ему я как-то больше поняла Прок<офьева>. Ведь он никогда ничего не говорил мне о своих чувствах, откуда же я могла знать. И я, я тоже самое, откуда же он мог знать! А теперь я прямо брежу им. А его еще на войну возьмут. Да, наверное, наверное. Неужели не пришлет мне ни строчки, если уйдет куда-нибудь.. Неужели ни одного слова не найдется для меня у любимого, но не милого! Боже мой! Это мучительно. Чувствовать человека и не иметь его, ведь даже вспомнить нечего. Нельзя ни одним моментом упиться, переживая. Все время не хватало, не хватало чего-то. — А ведь Гумилёв, пожалуй, прав, что я первую неделю «сразбега», буду молиться, чтоб его убили, а потом даже не захочу этого. То есть потом я наверно забуду об нем. Он пугал меня, что будет преследовать меня зимой, что будет требовать, чтоб мы видались, и что сильное желание победит все. Я не разубедила его, я только говорила, что требовать любви нельзя. Я все-таки не верю ему. Он мне говорил, что он меня любит, что он меня чувствует. Холодный он человек все-таки. Хотя я чувствовала его страсть, только она скоро пройдет у него.
Сколько счастья мог бы дать мне Прок<офьев>. А он разве не был бы счастлив лаская меня! Ведь он бы чувствовал, как я отдаюсь его ласкам, с каким наслаждением!
26 июля. Суббота. 1914 г.
Страшно быстро пролетела эта неделя.
Неужели доктор ко мне неравнодушен? Вчера он с нежностью иногда смотрел на меня, и потом он ловит мои движения. Это очень приятное чувство. Как будто ни одно движение не пропадает, а находит себе определенный смысл. В таких случаях я становлюсь очень скупой на движения. Это хорошо.
Гумилёв меня избаловал. Мне как-то все разговоры кажутся неинтересными. Вчера я говорила с Долиновым, мы сидели в общест<венном парке> (На что Вяч. Пав. была кажется в большой претензии и даже зла на меня). Мы говорили о поэзии, о поэтах. Наверно ему было скучно. Долинов мне нравится. Только я отношусь к нему как к младшему, в душе, конечно. Мне нужно с ним играть немножко, кокетничать насколько я могу, не нужно просто хорошо относится. Для него это скучно. А я хочу ему нравиться. Вот странно. Я его тоже боюсь немножко. Я готова при первом случае, намеке спрятаться в свою раковину.
Почему к Гумилёву у меня этого нет. Я его не боюсь, я ему верю. Или он действительно хороший человек или же он хитрый и сумел заставить меня верить ему. Конечно последнее вернее. Для меня это скверно.
28 июля. Понедельник. 1914 г.
Я влюблена. Так я еще не была влюблена. Долинов раздражает меня, дразнит. Когда я сидела вчера рядом с ним, мне стоило некоторых усилий, чтобы остаться сидеть на расстоянии, чтобы не прижаться к нему. Вчера я чувствовала, что у меня загораются глаза. Я старалась не смотреть не него. Хотя это конечно смешно. Почему стараться не смотреть, почему не сесть ближе в лунную ночь, на берегу моря! Только мне хочется, чтобы и ему этого захотелось. А он по-видимому очень спокоен. Ему приятно быть со мной, только у него нет никакого волнения. Впрочем он человек бывалый и опытный, не будет волноваться понапрасну! И мне нужно начать обороняться и потом перейти в наступление, а то может быть плохо. Может быть он отлично чувствует мое отношение, замечает, как у меня иногда понижается голос — и нарочно дразнит меня, не подходит. Я сегодня вспомнила слова Гумилёва. «Как иногда бывает хорошо и странно жить!» Это признак.
29 июля. Вторник. 1914 г.
У меня скверный вид за последнее время. Я совсем не поправилась и совсем не загорела. И чем я измучила себя? Наверно в теннис мне не надо играть. Потом я как-то много думаю и много мечтаю. Нужно........... Ничего не нужно
Какие события! Какие великие времена! Сегодня прочла о заседании Государственной Думы. Слезы выступают на глаза. Какой подъем духа, какое великое соединение всех людей, недавних врагов. Как один человек поднялась Россия. Даже Пуришкевич убеждал какого-то редактора оставить евреев в покое!
1 августа 1914 г. Пятница.
Ужасно скверная пятница сегодня. Вообще вся неделя скверная. Скорей бы она кончилась. Я зла на себя страшно. Могло бы быть так весело! Было бы так хорошо играть с Долиновым, это так сближает. А то он как-то остался за чертой. Я играю, Борис тоже, а он один. Фу, как гадко. Было бы лучше, если б мы совсем не играли. Можно было бы ходить гулять, одним словом, быть вместе. Мне например очень скучно без Долинова. А впрочем теперь этим жить нельзя, все это мелочи.
4 августа 1914 г. Понедельник. Утро.
Влюблена я совсем. Глупо и хорошо. Хорошо и странно. Я ему нравлюсь меньше, чем он мне. Он меня страшно волнует. Никто меня так не волновал. Вчера вечером мы были на пожаре. У меня нервное настроение. Бьется сердце беспокойное. Мне на днях цыганка сказала, что у меня сердце беспокойное. Но мне сладко это беспокойство. <…> (Далее — переживания о Долинове).
(Вечером) <…> Какое мне дело до того, какой он. Он мне нравится. Это первый человек, который так сразу мне вскружил голову. Ведь я очень мало с ним знакома. У меня всегда так долго это делалось. А тут как-то сразу. Неужели мы уедем на той неделе? Это будет прямо ужасно.
7 августа 1914 г. Четверг.
Я безумствую, я совсем с ума сошла. Я ничего не делаю. А месяц всего осталось до начала занятий… <…>
9 августа 1914 г. Суббота.
Я на ночь полюбила читать Блока. Читать, плакать над ним, томиться… Днем он мне кажется другим. Мне нравится совсем уже другое. Он скорее ночной. Да, он ведь и говорит, что посвящает свою книгу… ох, ведь она и называется «Снежная Ночь». А я ночь люблю. Ночью люди другими бывают.
Я вспомнила слова Гумилёва на днях, что нужно самому творить жизнь, и что тогда она станет чудесной. Я это знаю, у меня иногда бывают такие моменты, я носила в своей душе какой-то мир, и вместе с тем я жила внешним миром, но я его как-то перетворяла. Это не чушь, это чудесно. Но только для этого надо жить. Я ошибалась, когда думала, что если я делаюсь равнодушной и вялой к окружающей жизни, то я живу внутренно. Это не верно. Это просто я застывала.

Териоки. Море. Закат. 1914 год.
11 августа 1914 г. Понедельник.
В Териоках так тихо стало. Дни чудесные стоят. Воздух прозрачный, а солнце еще печет…
В нашем саду пахнет осенними желтыми листьями. И царит такая бездумная, безбольная печаль. Я сегодня весь день сижу дома. Нездоровится. На теннис меня не тянет. Долинова там нет. Он болен. Неужели он долго проболеет. Я так привыкла к нему… <…> Как хорошо быть влюбленной. Хорошо даже и то, что это тайно <…>
12 августа 1914 г. Вторник.
Мне нравится сидеть на окне в своей комнате. Здесь всегда светло. Забываешь, что живешь на даче, в Териоках, приятно забыть людей, теннис, большую дорогу, кажется, что где-то просто в деревне живешь, на воле. И что вот кроме этих желтых облаков, да берез, ничего нету, что вот так и тянутся они бесконечно, а там дальше может быть полянка… А вот эта тропинка по траве, мимо моего окна, ведет через поле к речке, к отлогим берегам, а может быть к обрыву… и глушь такая… И не тоскливо мне, а весело от этой мечты осенней, желтокрылой.
13 августа 1914 г. Среда. Утро.
Солнце, небо голубое… А я все утро молила о том, чтобы стать мне колдуньей, чтоб бросить пламя страсти в грудь ему, чтоб суметь напоить, отравить его зельем алым, алым таким… что сжигает меня!
Тянет меня к нему. Мучительно не могу расстаться с призраком. Чем реже вспоминаю о нем, тем сильнее чувство.
17 августа 1914 г. Воскресенье.
Последней день в Териоках кончился. Все-таки грустно немножко. Хорошее лето было. Лихом не вспомянешь. А Долинов мне все-таки нравится. Мы хорошо с ним расстались, т.е. мы хорошо провели сегодняшний день. Мы как-то так устроились, что нам никто не мешал. Только я у него в долгу осталась. Впрочем это пожалуй хорошо. Сегодня я себя держала так, как будто я в него вовсе не влюблена. А он был очень нежен ко мне. Точно немножко влюблен. И был грустный. Все-таки зачем я ему не сказала, что мне жалко с ним расставаться, хотя бы шутя?
23 августа 1914 г. Суббота.
<…> (много о Долинове…)
<…> Мы в Териоках как боги жили в сравнении с той жизнью, которая идет в Петрограде! Война, война поглощает все. Победы, поражения. Впрочем, у нас больше побед. Я начинаю гордиться тем, что я русская. Это у всех должно быть. Ведь как немцы угнетали нас, в особенности здесь, в Петрограде. Нет, в Петербурге. Какая их масса здесь была. Какие они противные, отвратительные. У нас теперь все время говорится о войне. Теперь, когда вспоминаешь териокскую жизнь, видишь, как мы все далеки были от всех событий, даже страшно делается. (Может быть странно и хорошо)! Ах конечно, но это уже прошло.
Все-таки я девочка какая-то. В 22 года девочка. Может быть это хорошо. Не чувствовать «бремени» лет?! Много знакомых ушли в сестры милосердия, конечно из них одна, две идут действительно со всем сердцем, без задней мысли, как например Инна, но остальные… А все-таки они что-то делают. Меня огорчает то, что и в душе у меня нет порыва, нет стремления пойти помогать, принять участие. Опять пассивность! Убийственно. Лень к жизни. Ужасный порок.
24 августа 1914 г. Воскресенье.
Я так устала сегодня. Мне даже кажется, что я больна. Сегодня мы в Павловске были. Насколько там хорош парк, настолько отвратительна тамошняя публика. Что-то пыльное, городское, изломанное…
Ну Бог с ней. — Я весь день занята Гумилёвым. Почему-то сегодня пришлось много говорить о нем. Соловьем рассказывала о нем, потом по дороге в Павловск встретила Бушен с братом. Опять его вспоминали…
27 августа 1914 г. Среда.
Вчера была у Бонди. Видела Мейерхольда. Он очень мил со мной и как-то серьезен. Говорил, что соскучился обо мне. Вот кто может вскружить голову. Я еще не в безопасности. Но зато я и сама теперь могу играть. Гумилёв много мне дал, и многому научил меня. У меня теперь другое отношение к мужчинам. Мне кажется, что Мейерхольд заметил это, хотя он ничего не сказал мне, но он так наблюдал за мной, тихонько и не только из кокетства.
Соловьев вчера ухаживал за мной. Ольга Мих. видимо удивлена этим и ей смешно (речь идет о жене Мейерхольда Ольге Михайловне Мунт — примечание Тименчика). А Всев. Эмил. понравился мой костюм, хотя он опять ничего не сказал. Он ужасно любит не говорить. Тем приятнее замечать его мысли.
28 августа 1914 г. Четверг.
Я серьезно влюблена. Это совсем скверно. Это глупо, это невозможно! Мы сегодня виделись с Долиновым в Летнем Саду… <…>
<…>
14 сентября 1914 г. Воскресенье.
Только что разошлась компания, были: все Бонди, Долинов, Мандельштам. (Грипич уехал обучаться военному искусству, дай Бог, чтоб ему не пришлось применять это искусство в деле! (Речь идет об Алексее Львовиче Грипиче — примечание Романа Тименчика). Все-таки мои самые милые друзья — Бонди. Я никогда им не изменю… <…>
25 сентября 1914 г. Четверг.
Сегодня в Консерватории видела Прок<офьева>. И с чего это я так побледнела… Впрочем, мы встретились уже после того, как видели друг друга издали и потому успели прийти в себя. Как все-таки я еще люблю его. И его застают врасплох наши встречи. Что он чувствует, я не знаю… <…>
<…>
16 октября 1914 г. Четверг.
Снег выпал. У меня за окном настоящая акварель.
17 октября 1914 г. Пятница.
Я не иду сегодня на конкурс. Я отрезала себе все пути. Мне весело от этого. Может быть потом я плакать буду. <…>
<…>
1 ч. ночи
У нас был Долинов и Мандельштам. Наши были на «Китеже». Я хозяйничала. Занималась музыкой. Я играла сегодня Баха — скверно. <…> Долинов говорил «страшные слова», что это chef-d'ouvre <шедевр>, что я замечательный талант, Мандельштам говорил, что лучше сыграть невозможно. А в общем у меня чего-то не хватает. Почему я так теряюсь на технике, почему так машу и так не сдерживаю себя! <…>
18 октября 1914 г. Суббота.
Вот отчего меня так тянуло на Невский сегодня. Прок[офьев] там был. Мама встретила его. А я опоздала. Боже мой, как я хочу его видеть. Гумилёв говорил, что если девушка и вспоминает Бога, когда думает о своей любви, если и молится ему — то ошибается. А по-моему он не прав. Любовь ведь это радость. О радости разве нельзя молиться? Ведь я страдаю вот теперь. Как же мне не молиться? И это страдание не только тоска.
Я бы хотела встретить Прок[офьева] не в консерватории, не на концерте, а случайно, где-нибудь на улице, чтоб мы были одни в чужой толпе.
<…>
19 октября 1914 г. Воскресенье.
Мне сегодня хотелось на Невский пойти. Но я была у Бонди. Положим, мы к 3 1/2 кончили играть трио, но я их всех очень люблю и мне не хотелось уходить от них так рано. Потом я еще не заходила в Юрию Мих., он болен, а нельзя же к нему на минутку зайти <…> (Речь идет о Ю. М. Бонди).
<…> Юрий мне сказал, что я скоро буду слушать пьесу у Мейерхольда, да еще в обществе Блока. Вот как хорошо! <…>
(Далее — много о музыке, концертах, Прокофьеве, иногда о Долинове; так весь ноябрь…)
1 декабря 1914 г. Понедельник.
Снег сегодня. Так хорошо. Я ужасно рада снегу. Целый день пропадала в консерватории, играла фугу и тарантеллу Феликсу Минцу. Он остался доволен (и я тоже) <…>
3 декабря 1914 г. Среда.
Ужасное настроение у меня. Точно о чем-то скучаю. Впрочем, я соскучилась о Долинове. Почему у меня нет любви. Я так жажду ее. Так жажду быть любимой. Долинову я нравлюсь. Да я сама влюблена в него …. Я знаю ……. я ужасно глупая…
<…>
4 декабря 1914 г. Четверг.
Ах это ужасно! Это так томительно. Я чувствую, что я вяну, сохну не физически, а нравственно. Гумилёв спрашивал меня, чего мне не хватает. Я никак не могла понять, что мне ответить. Я сама не могла понять, чего мне не хватает, мне казалось наоборот, что у меня есть что-то лишнее, с чем мне нужно расстаться (это конечно Прок[офьев]). Теперь я знаю, что мне действительно не хватает чего-то. Не хватает солнца, света, тепла. Я в тени, ни один луч еще не упал на меня, не проник ко мне. Что мне делать со своим сердцем? Взять и разбить его как пустую, ненужную вещь? Я ходила сейчас гулять по Каменному острову. Я так завидовала этим парочкам, исчезавшим на острове… <…>
(Далее — о Прокофьеве, очень лично — «моление» о нем)
(Последний день в третьей тетрадке дневника — 8 декабря 1914 года. Все — о Прокофьеве).
8 декабря 1914 г. Понедельник.
… <…> Сегодня я опять видела Прок[офьева]. Он меня расстроил немного.
Вчера у нас был Долинов. Я в него влюблена немножко. Но это совсем не то…
Долинов возбуждает во мне какую-то влюбленность, я себя очень хорошо с ним чувствую, какая-то легкость чувств. А Прок[офьев] меня подавляет, т.е. вернее не Прок[офьев], а чувство к нему я такое испытываю. Какое-то тайное, запретное и такое сильное, что я не могу совладать с ним, не могу побороть его. Мои руки были как лед, когда я с ним прощалась сегодня.
Конец 3-й тетради
Тетрадь №4
27 сентября. Воскресенье. 1915 г.
Я волнуюсь ужасно начиная писать… Боже мой! Вот — я женщина уже. Уже женщина, но еще не настоящая. У меня сейчас такое чувство, точно я впервые сознала, что я женщина, и между тем пять месяцев прожив с тех пор. Да, я теперь опять одна. Боже мой, я не знала, что мне так тяжело будет признаваться себе в этом. Я никого не потеряла, но я одна, а была вдвоем, это как-то случилось, что я одна, как будто что-то было и растаяло, да так, что даже вспомнить никак нельзя, что именно было. Туман, темная сила какая-то. У меня бывают моменты, когда я ненавижу, презираю его, своего бывшего мужа, за то, что я была его… нет, не то, вообще за все его мелкие чувства, за его пошлость, я не знаю, может быть мужчины — большинство такие. Я ему отдала свое первое чувство, нежность свою, он не понял меня, он отнесся легко ко всему, да он и не может иначе. Только я его все-таки не любила так, я ему не все отдала от себя и никогда б не отдала. Он это чувствовал. Как хорошо, что это так скоро вышло. Что я поняла его. Для меня в нем больше ничего не осталось. Мелкий, жалкий, самомнящий, испорченный «мальчик» скучающих барынь, даже не барынь, а… я не знаю как назвать, актрис, что ли, каким же он может быть мужем, этот человек, который даже себя не умеет уважать. Любовником на неделю, да и то не властелином, а пасынком.
А я проснулась для жизни, для работы, для всего для всего. Со мною произошло много, переворот большой, словом я — женщина, но у меня есть еще чистота в мыслях девическая, я еще не настоящая женщина. А жизнь я еще больше полюблю, еще полнее могу охватить ее, много мне будет ясным то, чего я раньше не могла понять.
Завтра иду к Блуменфельду. Какое-то бодрое свежее чувство, точно новое что-то открывается.
<…>
<…> (воспоминания об уже бывшем муже — Долинове, рассуждения о музыке...)
11 октября 1915 г. Воскресенье.
<…> (вначале запись о подруге Бушен — ее не приняли в консерваторию…)
<…> А у меня мысли роем кружатся в голове, и радость иногда охватывает меня. Сегодня мне приятно было; мне кланялся Гумилёв. Хотя это даже неприятно может быть, как-то уж очень значительно, поклон — как будто краткое одобрение мне и привет. Фокусник. Но мне было приятно.
Я иногда бываю ужасно недовольна своим дневником. Очень уж редки в нем мысли, все чувства. А между тем я иногда высказываю недурные мысли в разговорах… <…>
<…> (Далее, весь октябрь — хандра, много о Прокофьеве, размышления о его музыке…)
3 ноября 1915 г. Вторник.
Жить, будем жить! Я не перестаю думать о нем. Это безумие. Иногда я так счастлива тем, что я могу о нем думать, не проклинать его. Я вспомнила вчера: ведь мы знаем друг друга с 12 лет. Я помню ясно, как мы встречались два раза в неделю на Крюковом канале, утром, он шел домой, а я в научные классы. Он такой смешной был в круглой барашковой шапке, в детском пальто. Я еще жаловалась маме, что Прок[офьев] со мной не здоровается… <…>
10 ноября 1915 г. Вторник.
Я в себе чувствую какие-то силы дремлющие, какая-то атмосфера насыщенности меня охватывает. И это не моментами, а целыми днями. Но я сижу, думаю, дремлю, отвлекаюсь, но привыкла сдерживать себя. Да и что же я сделать могу? Сегодня утром я думала о Бушен и о себе. У меня есть какая-то вера. Самая простая и наивная вера в Бога, которому я могу обо всем молиться. Я раньше скрывала это, я думала, что это скучно, потом я не знала, что и о любви я могу молиться Ему же… Во всем этом меня как-то поддержал Гумилёв. Он сам или любит Бога или привык Его любить, но он как-то часто и легко упоминал о Нем. Да, что ж мне остается делать? Молиться, любить и надеяться? Это не безумие, не сомнамбулизм, мне хочется любви, счастья. Настоящего счастья…
<…> (Далее до 25 ноября — болеет, нет записей.)
30 ноября 1915 г. Воскресенье.
Сегодня какой-то особенный день, все меня волнует. Борис сегодня уехал в Царское к Гумилёву, образуется какое-то новое общество поэтов. Только он успел уехать, как звонит Чеботарев[ская], говорит, что ей Борис нужен сегодня по делу, непременно сегодня. Я за Бориса ужасно рада. То что его Гумилёв пригласил — очень хорошо. Пускай даже тут будут какие-нибудь убыли, не все ли равно. Все это устраивает Мандельштам. Ему конечно очень хочется опять попасть к нам, слушать музыку, читать свои стихи. И не нужно отнимать у него эту надежду, если он может быть полезен. Я так рада теперь за Бориса. Он отошел от студии, появились свои интересы. А в студии он был ничьим, сам не актер, а так, поклонник талантов. Пускай сначала все это туго дается, все эти общества ему еще чужды, но они, эти общества его искусства, а не чужого. А нужно завоевать себе положение.
Да, еще самое главное. Сережа видел Прок[офьева] в консерватории, разговаривал с ним. Хорошо, что сказал про то, что я больна. Он говорит, что Прок[офьев] страшно изменился, такой стал серьезный, не болтает как прежде, что прямо нельзя узнать… <…>
<…> (Далее — внутренние объяснения в любви к Прокофьеву, и прочее в том же духе...)
27 февраля. Суббота. 1916 г.
Сейчас читала стихи Ахматовой. Как она хорошо пишет. По-женски, правда, но с такой лаской и теплотой. Я хотела бы так писать… и пожалуй жить так как она. Только я на самом деле не способна к этой жизни совершенно. Одно стихотворение: «Я научилась просто и мудро жить» — напомнило мне окно моей комнаты на даче Парвиайкен в Териоках, там так хорошо было «смотреть на небо и молиться богу», не в религиозном экстазе, а уже по одному тому, что смотреть и наслаждаться и небом, и солнечным светом. И вспомнилась сладкая тревога, и то что не хотелось идти к людям, на теннис, и тишина вечерняя вспомнилась, как вылезла одна в окно и побродила по сырой траве, когда уже спали все. Странно, почему большинство сегодня хотят жить какой-то сложной жизнью. Вот и я. А между тем я пассивная натура. Вот были у меня переживания и всякие познания и испытания, но все это сразу, вдруг, одно за другим, и вот уже я опять готова дремать, все это разбудило мою энергию только на некоторое время. А все-таки нервы мои дают себя знать. Почему у меня такие волны настроения, то подъем и взлет, то упадок? Значит что-то все-таки бунтует во мне. Или это отголоски.
<…>
11 марта 1916 г. Пятница.
Ну вот. Завтра я еду. Хорошо, что еду. А какой сегодня день был! Вечер какой! У нас были Мейерхольды. Таких людей, как Вс. Эм. нету. Он такой милый, и такой какой-то особенный. Он пришел усталый, потом вдохновился, и мы весь вечер протанцевали, придумывали фигуры к вальсу Глинки, вспоминали «Танго»… — Я страшно довольна.
(Далее: отрывки из моего саратовского дневника) <…> (с 16 марта по 1 апреля)
<…>
23 марта 1916 г. Среда.
<…>
Вот мне теперь странно вспоминать стихи Ахматовой насчет того, что она научилась жить. Мне кажется они не настоящие, и слова ее — игрушки усталой женщины. Это только слова. Я теперь поняла Бориса, он говорил, что это так, забава…
<…> (17 мая появился Г. Нейгауз… В июне — отхождение от Прокофьева…)
(Последняя запись в дневнике — 5 июля 1916 года)
5 июля 1916 г. Вторник.
<…> (О Нейгаузе)
Ох, как я буду скучать! Я может быть не увижу его до января. Неужели это будет так? <…>
В конце этой тетрадки дневника — поздняя авторская приписка
В первой еще встрече Нейгауз, смотря мне в глаза, сказал: «Не правда ли как хорошо и как странно жить!» После я узнала, что это была «мода» так объясняться в любви. Я этого не знала и не придала этому значения…
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Ахматова-III-1983 Анна Ахматова. Сочинения. Том третий. YMCA-PRESS, PARIS, 1983, сс.383-385
Берберова-1996 Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография. М., изд-во «Согласие», 1996.
БСЭ-1…30 Большая Советская Энциклопедия, тт. 1 — 30. М., Советская Энциклопедия, 1970-1978.
Гумилёв-1991-1…3 Гумилёв Николай. Сочинения в трех томах, тт.1-3. М., Художественная литература, 1991.
Жизнь Гумилёва-1991 Жизнь Николая Гумилёва. Воспоминания современников. Ленинград, 1991.
Записки кавалериста Николай Гумилёв. Записки кавалериста и комментарии к ним Е. Е. Степанова в ПСС-VI.
ЗК Ахматовой Записные книжки Анны Ахматовой (1958 — 1966). «Giulio Einaudi editore», Москва — Torino, 1996.
Исследования-1994 Николай Гумилёв. Исследования и материалы. Библиография. СПб., «Наука». 1994.
Кралин-1,2 Анна Ахматова. Сочинения в двух томах. Составление и подготовка текста М. М. Кралина. Москва, Изд-во «Правда», 1990.
Лукницкий-I Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Том I. 1924-1925. YMCA-PRESS, Paris, 1991
Лукницкий-II Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Том II. 1926-1927. YMCA-PRESS, Русский путь. Париж-Москва, 1997.
Лукницкий-III Лукницкий П. Н. Дневник 1928 года. Acumiana. 1928-1929. В биографическом альманахе «Лица-9». Феникс. С.-Петербург, 2002.
Неакадемические комментарии-1…3 Степанов Е. Е. Неакадемические комментарии 1-3 в журнале: Toronto Slavic Quarterly, №№ 17, 18, 20.
НП-1987 Р. Тименчик. Неизвестные письма Н. С. Гумилёва. В «Известиях Академии наук СССР Серия литературы и языка», том 46, №1, 1987.
Пунин-2000 Н. Пунин. Мир светел любовью. Дневники. Письма. Москва, изд-во «Артист. Режиссер. Театр», 2000.
ПСС-I…VIII Гумилёв Н. С. Полное собрание сочинений. М., Воскресенье, тт.I-VIII, 1998-2007.
РГВИА Российский Государственный военно-исторический архив.
РНБ Российская национальная библиотека (С.-Петербург). Отдел рукописей.
Тименчик-2005 Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Водолей Publishers. The University of Toronto. Москва, Toronto — 2005.
Труды и дни Лукницкий П. Н. Труды и дни Н. С. Гумилёва. В книге: Вера Лукницкая. Любовник. Рыцарь. Летописец. Еще три сенсации из Серебряного века. СПб., «Сударыня». 2005.
Хроника-1991 Степанов Е. Е. Николай Гумилёв. Хроника / В кн.: Николай Гумилёв. Сочинения в трех томах, т. 3. М., Художественная литература, 1991.
Хроника-1920-х годов Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. Том 1. Части 1-2. Москва и Петроград. 1917-1922 гг. Москва, ИМЛИ РАН 2005.
Черных-I…III В. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Части I — III. Изд-во «Эдиториал УРСС», 1996 — 2001.
Шубинский-2004 Шубинский Валерий. Николай Гумилёв. Жизнь поэта. СПБ., Вита Нова, 2004.
Примечания:
1. Степанов Е. Е. Неакадемические комментарии в журнале: Toronto Slavic Quarterly, №№ 17, 18, 20.
2. Валерий Поволяев. Браслеты для крокодила Роман о Николае Гумилёве. ЗАО Издательский дом «Парад», 2006. Поначалу книга эта меня заинтересовала, так как, судя по содержанию, основные ее темы — Африка и война. Но, начав ее читать, мне стало ясно — осилить ее до конца (в отличие от автора — см. ниже) сил у меня не хватит. Приведу в качестве примера хотя бы такой пассаж. Повествование начинается с того, как Гумилёв едет по Африке в купе поезде с неким французом Жано. Поезд непрерывно обстреливается отравленными стрелами масаев и, чтобы отвлечься, Гумилёв соглашается сыграть в кости с французом. Естественно, проигрывает ему все «экспедиционные деньги», собирается стреляться, но, как требует жанр романа, в последний момент ему выпадает «флешь», и он отыгрывается. Напоминаю, повесть «документальная», и вскоре становится ясно, что автор пытается рассказать о путешествии 1910-1911 годов (смотрите «Неакадемические комментарии — 2»). По ходу дела, Гумилёв, решив, что час настал и пора стреляться (проиграно все, включая нательный крестик), вспоминает «маленького Ореста», сына от О. Н. Высотской (смотрите «Неакадемические комментарии — 3»). Прямо плакать хочется, и пересказывать дальнейшее я не решаюсь… Приведу лишь пару цитат из аннотации и послесловия автора. В аннотации сказано: «…Произведение основано на мемуарах, новых, секретных документах, рисующих бунтующую личность поэта в мятущейся обстановке Первой мировой войны, революции…» …Ох уж эти «секретные материалы» — смотрите вступление к «Неакадемическим комментариям — 1». А в послесловии (важное свидетельство!) автор раскрывает имена подлинных знатоков Гумилёва и хранителей «секретных материалов«: «… И последнее. Без помощи друзей, знатоков Гумилёва, мне эту книгу вряд ли дано было осилить. Поэтому я хочу выразить глубочайшую благодарность кинодраматургу Владимиру Акимову, главному специалисту Генеральной прокуратуры Российской Федерации Георгию Миронову (возможно, один из «главных специалистов» и поставщик «секретных материалов» — прим. Степанова), литературоведу Ивану Панкееву, заместителю директора завода «Красный пролетарий» Геннадию Кузнецову (ничего не имею против того, чтобы директора заводов интересовались и любили творчество поэта, но вряд ли это — «главный специалист» — прим. Степанова) и генерал-лейтенанту запаса Леониду Шебаршину (думаю, все-таки именно Леонид Владимирович Шебаршин был главным поставщиком «секретных материалов» для книги; как-никак, с 1962 года он — сотрудник Первого Главного управления КГБ СССР (внешняя разведка); с 1983 заместитель, а затем начальник информационно-аналитического управления ПГУ КГБ СССР; с 1987 года — заместитель начальника внешней разведки; в 1989 году назначен начальником ПГУ КГБ СССР, затем заместитель председателя КГБ, после августа (до сентября) 1991 года исполнял обязанности председателя КГБ; короче, он, безусловно, располагал «секретными материалами», с которыми поделился со своим другом — прим. Степанова) за помощь, оказанную в работе над романом. Если бы не ваши, друзья, советы, поправки, консультации, помощь словом и делом, этой книги могло бы и не быть. Вот, собственно, и все». Честное слово, иногда лучше не иметь столько «друзей-знатоков», тогда оставалась бы хоть небольшая надежда, что «книги могло бы и не быть». Завершается повесть нетипичными, в своем роде уникальными многостраничными «информативными» комментариями, из которых читатель впервые узнает о таких малознакомых ему понятиях, как «Лувр», «Царское Село», «Аничков мост», «верста», о малоизвестных литераторах и политических деятелях — Чуковский, Вячеслав Иванов, Михаил Кузмин, Теофиль Готье, Городецкий, Керенский, Мережковский, Гиппиус, Распутин, Ремезов, Замятин, Андрей Белый, Мандельштам, Деникин, Юденич, Ворошилов и кучу других ценнейших сведений, даже откроет для себя, что — «Новый Свет — Америка»!
Поскольку я отвлекся на рецензирование недавно вышедшей книги о Гумилёве, в примечаниях мне хочется упомянуть еще одну книгу, прочитанную уже после завершения работы над этими «Комментариями» и тоже имеющую к ним некоторое отношение. Это уже не роман, а «научное изыскание», о котором сказано в предисловии небезызвестным «скандалистом» Виктором Топоровым: «Перед нами вполне традиционное исследование в духе вересаевских «Пушкина» и «Гоголя». Главное слово предоставлено здесь очевидцам…» Тамара Катаева. АНТИ-АХМАТОВА. Москва, ЕвроИНФО, 2007; 560 страниц убористого текста, без иллюстраций. Автор книги решил заново «прокомментировать» всю жизненную и творческую биографию Ахматовой и «поставить» ее на то место, которое, она, по мнению автора, заслуживает. Приводить цитаты из нее — бессмысленно (скорее, противно), однако пролистать ее полезно; книге создана шумная реклама (почему я и упомянул ее здесь). Отмечу лишь остроумную рецензию в журнале «Афиша», №20 (211), 2007, с.37, начинающуюся как раз с цитаты (в такой стилистике написана вся книга): «Анна Ахматова, сытая, пьяная, получающая медали, желающая, чтобы ее 90 килограммов тела доставили — на правительственном! на специальном! самолете, в брюхе летучей рыбы или как там!. . — в Ленинград вместо нескольких мешков муки, чтобы она могла напомнить о себе любовнику…». Все позднее творчество Ахматовой объясняется Катаевой чисто медицинскими диагнозами — среди названий глав книги можно встретить и такие: «Шпиономания» и «Попытка срама или Постменопауза». Книгу эту, наверное, можно поставить на книжной полке бок о бок с упомянутой выше повестью о Гумилёве, как примеры литературного бесстыдства. Парадоксально то, что хотя конечные цели и оценки автора повести о Гумилёве, автора «исследований» об Ахматовой и автора разбираемых мною «академических комментариев» об обоих поэтах в 8 томе ПСС, которые «выставляют» они своим героям (в них совершенно не нуждающимся!), диаметрально противоположны, во всех случаях используются одни и те же приемы, наработанные десятилетиями развития советского литературоведения — подтасовка фактов и заранее выстроенные концепции, которые необходимо «научно» обосновать через приводимые «факты». Все это делается с учетом уровня подготовки читателя (как правило, низкого, но желающего узнать что-то новое о знаменитых поэтах), с целью навязать свое мнение… И авторам это, к сожалению, удается. По крайней мере, «Анти-Ахматова» стала бестселлером. И главная беда, по моему мнению, состоит в полном отсутствии публикации подлинных документов.
Поскольку я коснулся здесь рецензирования недавно вышедших книг, упомяну еще одну, прочитанную уже после «Анти-Ахматовой». Она как раз в огромной степени восполняет недостаток документальных подтверждений и непосредственно относится к рассматриваемой теме: Виталий Шенталинский. «Преступление без наказания». Документальные повести. М. «Прогресс-Плеяда», 2007. Это третья часть его «трилогии» (так написал об этом в предисловии поэт Владимир Леонович). В. Шенталинский — председатель комиссии по творческому наследию репрессированных писателей, который смог ознакомиться с оригиналами многих «дел» на писателей. В этой книге приводится множество документов по делам Н. Гумилёва, Л. Гумилёва, Ахматовой и других жертв репрессий (в том числе, с факсимильными копиями ряда документов). Делам Гумилёвых и Ахматовой отведено более 200 страниц из общих шестисот. Хотелось бы порекомендовать заинтересованным читателям (и лично Тамаре Катаевой!) прочитать эти книги — параллельно. Вопросы о «шпиономании» Ахматовой и ее «сытой и пьяной жизни», о безразличии к судьбе сына можно было бы сразу же снять. Настоятельно рекомендую внимательно прочитать эту книгу, которой, увы, не грозит судьба — стать бестселлером. Более всего меня потряс опубликованный в книге документ о судьбе огромного, трехтомного, на 900 страницах дела Ахматовой, составлявшегося на протяжении десятилетий, от начала 20-годов до 23 ноября 1958 года. Вот что пишет об этом сам автор: «… 900 страниц, три тома. Хроника жизни поэта глазами госбезопасности. Наверняка со стихами. Бесценный материал! Литературный памятник! Так и издать бы все три тома, факсимиле. «— Уничтожено, 24 июня 91-го, по приказу руководства КГБ по Ленинградской области», — таков был ответ, когда я официально, от лица Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей, запросил это дело для изучения. Так, значит, уничтожили, и когда — перед историческим августовским путчем. Но зачем, ведь уже весь мир знает — это великий поэт, классик! И к своим прежним черным одеждам гэбисты могли бы хоть белую заплаточку пришить и потом сказать: зато мы вернули миру, спасли одно или, может быть, несколько стихотворений Ахматовой. И недостающие факты ее жизни. Объяснили: «— Статья семидесятая отменена, держать материалы после отмены статьи незаконно… <…> А впрочем, все ясно — заметали следы, чтобы оправдать свое ведомство в глазах потомства». От себя замечу — и для того, чтобы у нас вскоре появилось как можно больше таких «исследователей», как Тамара Катаева. Страшно и то, что наверняка уничтожены были тысячи таких дел, с бесценными рукописями, которые, увы, горят. Преступление, которому не будет наказания…
3. Пару слов об том, как делался этот пресловутый 8 том «Академического полного собрания сочинений Н. С. Гумилёва». На подготовительном этапе, действительно, шла интенсивная работа, в результате которой было выявлено множество совершенно новых сведений, фактов, документов. Книга рождалась «в муках» — через переписку автора комментариев с замечательным исследователем творчества Николая Гумилёва англичанином Майклом Баскером, консультации с другими специалистами. Тщательно выверенные тексты писем, со всеми их описаниями и комментариями, отсылались в редакцию, при этом предполагалось, что будет действовать «обратная связь». По крайней мере, изначально оговаривалось, что мы будем полностью в курсе того, что принимается и что отвергается, с соответствующей аргументацией. (Замечу, что вся рабочая переписка сохранилась, надеюсь ею воспользоваться, если удастся переиздать книгу с другими комментариями.) Увы, ничего подобного не произошло. За все время — ни единого отклика. (Извиняюсь, я ошибся, один отклик был — это отвергнутые редакцией комментарии к первому сохранившемуся письму Гумилёва Ахматовой, №116, благодаря чему и появились «Неакадемические комментарии».) Мы наивно полагали, что молчание — знак согласия. На самом деле в ход пошли почти не выверенные начальные тексты комментариев (и часто — даже самих писем!), с очень сомнительными построениями и выводами, типа тех, которым посвящен этот выпуск. Это одна из причин, почему я уделил им здесь такое внимание. К сожалению, таких примеров в книге — множество, разбирать все их — бессмысленно. Кое-что из нашей наработки все-таки вошло в книгу, но отделить «зерна от плевел» читателю будет чрезвычайно трудно. Зато почва для новых «романов» подготовлена урожайная… Книга была сдана в издательство, но окончательного текста мы так и не увидели. Верстку из московского издательства «Воскресенье» я неофициальным путем получил в конце сентября 2006 года. В выходных данных тома указано — сдано в набор 26 июня 2006 года, подписано в печать 30 августа 2006 года. Я сразу же обратил внимание на фантастическое количество ошибок, описок, не внесенных исправлений — даже в сверенные по автографам исходные тексты писем. Не говоря уж о грубейших фактических ошибках. Приведу лишь один пример. Во вступительной статье полученной мною верстки было сказано: «Связность этого «эпистолярного повествования», являющегося неоценимым материалом как для биографов поэта, так и для историков «серебряного века» нарушается… периодом российской «смуты» осени 1917 — весны 1918 гг., во время которой Гумилёвская корреспонденция из Парижа и Лондона либо не доходила до России, либо уничтожалась адресатами (либо исчезла впоследствии, как исчезли письма поэта к родственникам). По крайней мере, никаких писем Гумилёва, помеченных этим месяцами (так — ошибок и описок чудовищное количество!) мы в настоящее время не знаем…» Тот, кто это, писал, видимо, забыл заглянуть в содержание тома. В его состав, естественно, вошли письма 1917-1918 гг. из Парижа и Лондона — Ахматовой, Лозинскому, Ларионову (№№166-169). Кстати, недавно обнаружилось еще одно, не попавшее в том письмо М. Ларионову из Лондона 1918 года, написанное за пару месяцев до возвращения в Россию. Эта верстка дошла до печати лишь в начале 2007 года, я пытался хоть как-то вмешаться, чтобы внести исправления в очевидные ляпсусы, ошибки и описки… Ничего не получилось. Книга пошла в печать без единой считки верстки, абсолютно в том же виде, как полученный мной в сентябре файл книги (в формате верстки, программа PageMaker). Содержание самих комментариев я в данном случае не рассматриваю — что есть, то есть, последнее слово остается всегда за редактором. Поэтому и остались в комментариях такие перлы, как фраза перед каждым письмом: «При жизни не публиковалось», но изъяты, как несущественные, описания конвертов с пометками и штемпелями, а также и самих писем (бумага, чернила и прочее). Мое наивное предположение, что первая верстка должна затем подвергаться хоть какой-то считке и корректуре, оказалось ошибочным. О таких «мелочах», как отсутствие «Именного указателя» я и не заикаюсь — кому он нужен в «эпистолярном» томе. Одним словом — первое «Академическое издание» полного собрания сочинений Николая Гумилёва, можно сказать, состоялось! Говорю так, потому что одновременно с 8 томом редакция передала в издательство и заключительный, 9 том, куда, как предполагается, войдут все переводы (полнейший бред — одних переводов наберется, минимум, на два тома!), с многочисленными дополнениями, надписями на книгах, библиографией и прочими материалами. В каком виде — можно только догадываться. Но главное дело сделано, можно поставить «галочку». Не войдет в заключительный том (ранее это намечалось) только моя расширенная (по сравнение с изданием 1991 года) и атрибутированная «Хроника жизни Николая Гумилёва», о чем я сожалею, но надеюсь на то, что ее удастся еще опубликовать. Жаль, что издание ПСС Николая Гумилёва оказалось торжеством «социалистического принципа«: главное — успеть сдать «объект» к намеченному сроку и «застолбить приоритет».
4. Хроника-1991, сс.382-387.
5. Смотрите, например, письмо М. Лозинского Гумилёву от 5 марта 1914 года — ПСС-VIII, №33, с.241 и 596.
6. Сестра поэта Г. Адамовича Татьяна Викторовна Адамович, в замужестве Высоцкая (31.01.1894, Петербург — 2.04.1970, Варшава) с юности занималась танцами, позже, после революции была создательницей собственной балетной школы в Польше. Ей посвящен сборник Н. Гумилёва «Колчан». В 1918 году она вышла замуж за профессора музыки С. Высоцкого, сменив при этом фамилию, и всю жизнь прожила в Польше. В БСЭ-20 (1975 г.), в статье «Польша», Т. Высоцкая упоминается как ведущий польский балетовед. В Варшаве, еще при жизни, она издала книгу воспоминаний, в которой имя Гумилёва, фактически, не упоминается — Wysocka Tacjanna . Wspomnienia . Warszawa, 1962. Все, что удалось «наскрести» там, касающееся юности и России, вошло в книгу «Жизнь Гумилёва-1991», с.88, чуть более страницы сомнительного содержания, касающегося устраиваемых в доме приемов («jour-fixe») с участием поэтов, в том числе Ахматовой, Кузмина, Гумилёва, Бальмонта, Блока, Есенина и др. Гумилёв упоминается единственный раз, и только в этом ряду. Затем она перечисляет посетителей «Бродячей собаки» — Блок, Ахматова, Брюсов, Бальмонт, Есенин, Северянин и Вертинский. Весьма своеобразный «документ», опираться на который вряд ли стоит. Большого труда стоило найти ее не очень качественную фотографию «польского периода». Остается пока даже не выясненным, контактировала ли она с жившим в Париже братом. Пожалуй, наиболее достоверные и интересные сведения о Татьяне Адамович «Петербургского периода» можно найти в книге Берберова-1996, сс.91-93, 101. Во время войны и до революции Татьяна Адамович преподавала в Петрограде, в гимназии — французский язык. У нее с осени 1914 года училась Нина Берберова. Любопытно, что именно Татьяна Адамович, на вечере «Поэты — воинам», состоявшемся в «Зале Армии и Флота» на Литейном проспекте 28 марта 1915 года, познакомила юную Нину Берберову с Анной Ахматовой.
7. ЗК Ахматовой, с. 518.
8. Истории взаимоотношений Анны Ахматовой и Николая Владимировича Недоброво (1882 — 1919) посвящены многочисленные публикации, но наиболее полно она изложена в Ахматова-III-1983, сс.371-427 (в Приложении к тому, в статье Г. П. Струве «Анна Ахматова и Николай Недоброво»; цитируемые письма были первоначально подарены Борисом Анрепом Г. Струве). Фрагменты из писем Н. В. Недоброво Борису Васильевичу Анрепу (1883 — 1969) цитируются по указанной работе. Оригиналы писем в настоящее время хранятся в РНБ., Ф.1088, архив В. А. Знаменской. Николай Недоброго и Борис Анреп подружились в 1899 году, когда оба они оказались учениками 6-го класса 3-й харьковской гимназии. С Ахматовой Недоброго сблизился (познакомились они, видимо, раньше, в «Лукницкий-II», с.33, называется «до 1910») весной или летом 1913 года, и вскоре это знакомство переросло более, чем в дружбу. Близкие отношения сохранялись до тех пор, пока в 1915 году Недоброво не свел Бориса Анрепа с Ахматовой. Это знакомство оказалось роковым для его отношений как с Анрепом, так и с Ахматовой.
9. ЗК Ахматовой, с. 285. С Борисом Анрепом мы еще столкнемся несколько позже, но уже не как с «другом» Ахматовой, а как приятелем и начальником Гумилёва по военной службе в Лондоне в 1918 году. Здесь важно обратить внимание на хитросплетения личных взаимоотношений участников описываемых событий.
10. Имеется в виду статья Н. В. Недоброво «Анна Ахматова», впервые опубликованная в журнале «Русская мысль», №7, 1915, разд. II, сс.50-68. Однако написана статья была, как свидетельствует сам Недоброво, в январе — марте 1914 года (Черных-1, сс.68-70).
11. Подробное описание этой мозаики дано в книге: Григорий Кружков. Ностальгия обелисков: Литературные мечтания. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С.398-408. Там же он предлагает интересную версию происхождения сюжета мозаики — акростих Гумилёва (АННА АХМАТОВА) «Ангел лег у края небосклона…» (ПСС-III, №54). Г. Кружков, знаток английской литературы, указывает и еще на одну мозаику Бориса Анрепа в Соборе Христа Владыки (Christ the King) в маленьком ирландском городке Маллингаре. Как пишет Г. Кружков, «1954-й год в католическом мире был объявлен годом, посвященным Святой Марии, и многие церкви заказывали украшения в ее честь. Борис Анреп выполнил мозаику, изображающую «Введение Богородицы во храм». В центре композиции — Святая Анна с большим нимбом вокруг головы и крупной надписью: S:ANNA.
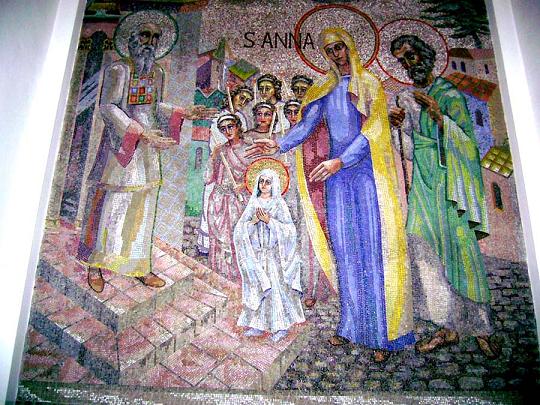
Мозаика Бориса Анрепа «Святая Анна» в Соборе Христа Владыки в Маллингаре.
По мнению самих маллингарцев, черты Святой Анны на мозаике Анрепа имеют портретное сходство с Анной Ахматовой…»
12. Явная отсылка к уже написанному и обращенному к Недоброво стихотворению Ахматовой «Покорно мне воображенье / В изображеньи серых глаз / В моем тверском уединенье / Я горько вспоминаю Вас…». Стихотворение написано в июле 1913 года.
13. Отметим здесь (чтобы более к этому не возвращаться), как «интимные стороны жизни друг друга» отражены не в многочисленных «мемориях» и «художественных произведениях», а в некоторых документах, исходящих от самих участников событий, заслуживающих внимания и незамеченных многими исследователями. Оправданием того, что я решился затронуть «интимные стороны жизни друг друга», может служить крайне любопытная выписка из дневника одного из участников событий, Н. В. Недоброво (см. Тименчик-2005, с.9, текст далее выделен Степановым): «Вчера, когда я лег спать и сначала не мог заснуть, я в полузабытьи думал о расчленении истории литературы. И мне пришло в голову следующее. Изучая поэта, надо изучать отдельно три порядка явлений: все внешние влияния на поэта, его интимный творческий процесс и вообще его думу, его произведение и восприятие его человечеством». Я постараюсь затронуть только «первый порядок явлений» — «внешние влияния на поэта», фактически — его реальную биографию, которую составляют часто случайные встречи и события, но которые не могут не влиять на «интимный творческий процесс и вообще его думу». Считаю себя не достаточно компетентным, чтобы затрагивать сам творческий процесс, для этого есть серьезные специалисты, одному из которых, Р. Д. Тименчику, я особенно благодарен за ценные указания, замечания и дополнения. Правда, по этой причине данное примечание сильно увеличилось в объеме и вылилось в некое «лирическое отступление».
Наиболее полно «интимные стороны жизни друг друга» отразились в дневниках П. Н. Лукницкого, составленных на основе бесед с Ахматовой во второй половине 1920-х годов. Интерес к этой стороне жизни Гумилёва, с одной стороны, Лукницкого, и откровения, с другой стороны, Анны Андреевны становятся понятными после публикации «интимной тетради» Лукницкого в первой части последней книги В. К. Лукницкой (27.01.1927 — 6.04.2007) «Труды и дни», (сс.35-69.) В дневниках Лукницкого Анна Андреевна отводит много места увлечениям Гумилёва, неоднократно возвращается, по просьбе Лукницкого, к составлению «Донжуанского списка» Гумилёва (Лукницкий-I, сс.146, 148, 157, 179, 180; Лукницкий-II, с.101). Любопытно то, что в дневниках Лукницкого говорится именно о «Донжуанском списке». По всей вероятности, такой «контекст» появился после выхода в 1923 году, в издательстве «Петроград», книги П. К. Губера «Дон-Жуанский список А. С. Пушкина». Ахматова была знакома с Петром Константиновичем Губером (1886 — 1941) лично, его имя упоминается в дневниках Лукницкого (Лукницкий-I, с.52). Но мне кажется более любопытном соседство имен, зафиксированное в «Хронике 1920-х годов», в записи от 11 февраля 1921 года: «Петроград. Торжественное собрание представителей литературных и культурно-просветительских учреждений и организаций Петрограда в связи с 84-й годовщиной смерти Пушкина (Дом литераторов); пред. Н. Котляревский; поч. пред. А. Кони. В президиуме — А. Ахматова, А. Блок, Н. Гумилёв, М. Кузмин, М. Кристи, Б. Модзалевский, И. Садофьев, Ф. Сологуб, В. Ходасевич и П. Щеголев; секретари собрания — П. Губер и Б. Харитон…» Вряд ли можно сомневаться в том, что «Дон-Жуанский список Пушкина» Ахматова прочитала внимательно. Здесь неуместно приводить все составленные Ахматовой списки увлечений Гумилёва, но стоит отметить, что как в записях Лукницкого, так и в собственных «Записных книжках» она почти ни словом не обмолвливается о собственных «романах», которые, как будет сказано ниже, были. Что касается записей Лукницкого — единственным исключением, и то с оговорками, можно считать частые упоминания (естественно, помимо Гумилёва) Бориса Анрепа. Например, Лукницкий записывает рассказ Ахматовой про Анрепа: «…Во время войны Б. В. (Борис Анреп) приехал с фронта, пришел к ней, принес ей крест, который достал в разрушенной церкви в Галиции. Большой деревянный крест. Сказал: «Я знаю, что нехорошо дарить крест: это свой «крест» передавать… Но Вы уж возьмите!..» Взяла. Потом опять не виделась с ним. Когда началась революция, он под пулями приходил к ней на Выборгскую сторону, и не потому что любил — просто так приходил. Ему приятно было под пулями пройти» (Лукницкий-I, с.41). Оставим такую оценку поведения Анрепа на совести Ахматовой, но, согласитесь, довольно странно звучит — «не потому что любил», а — «приятно было под пулями пройти»… Про Недоброво упоминаний много, но 99% — как об участнике литературной жизни и авторе статьи. Лишь в двух местах она «проговаривается», Лукницкий честно фиксирует ее слова, но, видимо, большого значения им не придает: «Недоброво — аристократ до мозга костей, замкнутый, нежный» (Лукницкий-I, с.208). И, как мне кажется, более существенное свидельство-опасение: «Мне надо выяснить, что из касающегося АА есть у Голлербаха. АА очень боится, что ее переписка с Недоброво в руках Голлербаха. (Когда Недоброво заболел туберкулезом и был отправлен на юг, его квартира в Ц<арском>.С<еле>. осталась пустая. Всеми пустующими квартирами, представляющими художественную ценность, заведовал, по службе, Голлербах. Он не поленился, вероятно, узнать, что есть в квартире Недоброво, и если обнаружил там эту переписку, конечно, не постеснялся прибрать ее к рукам…» (Лукницкий-I, с.129) Эти опасения оказались напрасными, но появление у Голлербаха хорошо сейчас известных писем к Сергея Штейну, в которых Аня Горенко подробно рассказывала о своем, возможно, первом серьезном увлечении, Владимире Викторовиче Голенищеве-Кутузове (1879 — ???), вызвало бурный гнев: «„…Очень неприятно сознавать, что когда я умру, какой-нибудь Голлербах заберется в мои бумаги!“ Я: „А почему именно Голлербах?“ АА рассказала мне возмутительную историю о Голлербахе, незаконно завладевшем ее письмами к С. Штейну (при посредстве Коти Колесовой), и кроме того, напечатавшем без всякого права, без ведома АА, отрывок одного из этих писем в „Новой русской книге“…» (Лукницкий-I, с.20). Отметим, что Э. Голлербах тогда привел лишь фрагмент из письма, касавшийся издания Гумилёвым в Париже журнала «Сириус», где состоялся поэтический дебют Анны Ахматовой (тогда еще — Горенко), ни словом не коснувшись отраженной в письмах «личной жизни» Ани Горенко. Сами письма С. Штейна к нему попали отнюдь не случайно — после отъезда С. Штейна из Советской России, Голлербах женился на его второй жене, упомянутой Ахматовой Екатерине Владимировне Колесовой. Первой женой С. Штейна была родная сестра Ахматовой Инна, скончавшаяся в 1906 году. Смерть сестры как раз и послужила поводом к началу ее интенсивной, недолгой, но «исповедальной» переписки с С. Штейном. Кстати, в этих же письмах (помимо Гумилёва) мельком упоминается еще одно детское увлечение — поэтом А. М. Федоровым (1868 — 1948), которому посвящено одно из самых ранних сохранившихся стихотворений Ани Горенко — «Над черною бездной с тобою я шла…», написанное 24 июля 1904 года в Одессе. Публикация Голлербахом в 1922 году крохотного отрывка из этой переписки оказалось вполне достаточным, чтобы испытывать неприязнь к нему на протяжении всей жизни. Однако со Штейном переписывалась не Ахматова, а пока еще Аня Горенко. Сохранилось другое, любопытное, но очень похожее не предыдущее свидетельство Н. Пунина о судьбе его длительной переписки с Ахматовой. Вот фрагмент его дневника (Пунин-2000, с.334), запись от 29-30 июля 1936 года (уже после первого ареста, вместе с Левой, и быстрого освобождения): «…Любовь осела, замутилась, но не ушла. Последние дни скучаю об Ан. с тем же знакомым чувством боли. Уговаривал себя — не от любви это, от досады. Лгал. Это она, все та же. Пересмотрел ее карточки — нет, не похожа. Ее нет, нет ее со мной. <…> Проснулся просто, установил, что Ан. взяла все свои письма и телеграммы ко мне за все годы; еще установил, что Лева тайно от меня, очевидно по ее поручению, взял из моего шкапа сафьяновую тетрадь, где Ан. писала стихи, и, уезжая в командировку, очевидно повез ее к Ан., чтобы я не знал. От боли хочется выворотить всю грудную клетку. Ан. победила в этом пятнадцатилетнем бою…» Так что подпускать к подробностям своей личной жизни Ахматова не хотела никого и никогда. Однако, как мне подсказал Роман Тименчик, в беседах с Лукницким Ахматова однажды продиктовала ему и свой личный «донжуанский список»! Его можно найти в разрозненных, изрезанных дневниковых записях 1927 года, 30 июля (Лукницкий-II, с.284-285; кем дневник был изрезан вряд ли удастся когда-нибудь установить, тем более узнать о том, что было вырезано). В отличие от «Пушкинского списка», с именами, этот список ограничен заглавными буквами, которые Лукницкий, видимо, позже — пытался расшифровать. Среди «расшифрованных» Лукницким фамилий — Гумилёв, Модильяни, Чулков, Недоброво, Лурье, Зубов. Некоторые инициалы остались неузнанными (Ц., Ф., К.). Заметим, что эта часть «списка», видимо, составлена «хронологически» — действительно, между Гумилёвым и Недоброво были — Модильяни и Чулков. Отметим также, что, отправившись после возвращения Гумилёва из второго путешествия по Абиссинии (Неакадемические комментарии-2) в одиночестве в Париж, в мае-июне 1911 года, Ахматова встречалась там и с Модильяни, и с Г. Чулковым. Из воспоминаний жены Г. Чулкова Н. Г. Чулковой: «Я впервые встретилась с Ахматовой в Париже в 1911 году. <…> Мы вместе совершали прогулки и посещали иногда вечерами маленькие кафе. <…> Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее (Черных-I, сс.43-44). По сведениям Тименчика, еще один похожий «Донжуанский список» Ахматовой (но отличающийся по составу) сохранился в семейном архиве Пуниных. О нем я сказать ничего не могу…
На этом я ограничусь, потому что считаю неуместным в наше время сочинять небылицы, копаться в непростой личной, особенно «интимной» жизни любого человека — тем более, под видом «Академических комментариев», о которых речь пойдет далее.
14. ЗК Ахматовой, с. 342.
15. Имеются в виду знаменитые «Пятистопные ямбы» Гумилёва. Так как Ахматова обозначает их как некий важный рубеж, напомним, что первоначально написаны они были незадолго до последней африканской экспедиции, в 1912 году, впоследствии, в 1915 году, существенно переработаны. Первая публикация — в «Аполлоне», №3, март 1913 года, вторая редакция — в «Колчане» в 1916 году.
16. ЗК Ахматовой, с. 360-361.
17. ЗК Ахматовой, с. 529. Готов дословно повторить последнюю фразу Ахматовой, но отнести ее не к тем, о ком она пишет (Маковский и др.), а к некоторым нынешним толкователям и «исследователям» (см. примечание 2 про последнее «препарирование» жизни Ахматовой). «Кому-то просто захотелось исказить образ поэта. Не будем вдумываться, с какими грязными намерениями это было совершено, но оставить это так, как есть, не позволяет мне моя совесть…» Я не за то, чтобы наводить глянец на образы поэтов, а за то, чтобы каждый занимался своим делом. Пусть писатели сочиняют любые небылицы, но не гоже заниматься этим или копаться в грязном белье тем, чей долг — поиск новых фактов и документов, попытка нащупать истину.
18. Лукницкий-I, с.177. Этот «вечер» в дневнике П. Лукницкого, датированный 9 июня 1925 года, был посвящен расспросам обо всех «увлечениях» Николая Степановича. Начался он с вопросов о Тане Адамович и о том, «как произошло у Н. С. расхождение с Адамович? АА рассказала, что она думает об этом. Думает она, что произошло это постепенно и прекратилось приблизительно где-то около выхода «Колчана». Резкого разрыва, по-видимому, не было. Таня Адамович, по-видимому, хотела выйти замуж за Н. С.». Дальнейшая история с «разводом» относится к этому эпизоду. А завершается он таким признанием Ахматовой: «АА снова рассказывала, как она «всю ночь, до утра» читала письма Тани и как потом Н. С. никогда ничего об этом не сказала…»
19. Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950), швейцарский композитор и педагог, создатель системы музыкально-ритмического воспитания, основанной на связи музыки с движением; система эта применялась в балетных школах и специальных институтах в разных странах, в том числе в России. Именно по его систему преподавала впоследствии Татьяна Адамович, см. примечание 5.
20. Лукницкий-I, с.100. Далее Ахматова рассказывает Лукницкому о случайной встрече с Блоком на станции Подсолнечная: «…Блок спросил: «Вы одна едете?» (Блок очень удивил этим вопросом АА: «Блок меня всегда удивлял!») Поезд стоял минуту, может быть, 2-3, и АА уехала дальше… Потом приехала в Слепнево. В Слепневе это письмо Колино из Териок получила…»
21. ЗК Ахматовой, с.664. Запись эта сделана в 1965 году, в одной из последних записных книжек (№21), в разделе «Даты». Лукницкому Ахматова об этом визите Недоброво не обмолвилась. Встреча в Дарнице с Недоброво была, видимо, оговорена в одном из писем, которыми Недоброво собирался развлекать Ахматову в ее «Тверском уединенье»…
22. ЗК Ахматовой, с.669 и 671. «Подошла я к сосновому лесу» — Ахматова цитирует посланное Гумилёву 17 июля стихотворение, о котором будет сказано ниже.
23. Роман Тименчик. Рим Анны Ахматовой: Horror Mortis (1964). Toronto Slavic Quarterly , №№21
24. И. Платонова-Лозинская. «Летом семнадцатого года… О дружбе А. Ахматовой и М. Лозинского». Литературное обозрение, №5, 1989, с.65. В этой публикации ошибочно указано, что «День Купальницы-Аграфены» совпадает с днем рождения Ахматовой — 11/23 июня. О каком потерянном закладе пишет Ахматова — непонятно. Тональность же письма явно перекликается с первым, упоминавшимся мною и обращенным к Недоброво стихотворением про «тверское уединенье» (см. примечание 11): «…Вы, приказавший мне: довольно, / Поди, убей свою любовь! / И вот я таю, я безвольна, / Но все сильней скучает кровь. // И если я умру, то кот же /Мои стихи напишет вам, / Кто стать звенящими поможет / Еще не сказанным словам?»
25. А. А. Гумилёва. Николай Степанович Гумилёв. В книге «Жизнь Гумилёва-1991, с.74. Воспоминания жены старшего брата поэта Дмитрия (урожденной Фрейганг), хотя и содержат ряд мелких точных деталей, во многих местах мало достоверны, и к ним надо подходить с осторожностью. Ахматова излишне резко вообще отвергала их, что также несправедливо. Между братьями не было особой близости. Писались эти воспоминания спустя много лет — впервые они были опубликованы в «Новом журнале», Нью-Йорк, 1956, №46, сс.107-126. Наибольшие сомнения вызывает дата 5-летия свадьбы, 5 июля 1914 года, так как из «Послужного списка» (РГВИА, ф.409, №153-923) следует, что 5 июля 1909 года Д.Гумилёв пребывал в полку (временно командовал 12-й ротой) и, следовательно, на собственном бракосочетании присутствовать никак не мог. Точную дату их свадьбы пока документально уточнить не удалось.
26. Точный дачный адрес Гумилёва и время его прибытия в район Териок удалось установить по письму М. В. Бабенчикова художнику Н. Н. Кульбину от 7 июля 1914 года: «…Вчера приехал в Куоккалу на семь дней Н. С. Гумилёв. Он Вас хотел бы повидать, его адрес пансион «Олюсино», комн. №7» (ГРМ, ф.134, №21, л.5, впервые указано Р. Тименчиком в НП-1987, с.72).
27. Впервые опубликовано полностью, с факсимильной копией, в журнале Аврора-1989 №6 (что в комментариях, кстати, не отмечено, точнее — было вычеркнуто). Автограф хранится в РГБ ф.474, альбом П. Н. Медведева №1, лл.34-40.
28. Кралин-2, с.189 и с.367. О взаимоотношениях Ахматовой с семейством Чулковых смотрите также публикацию: Е. Бень. Ахматова и Чулковы. «Русская мысль», Париж, 20-26 января 1994; перепечатано в: Евгений Бень. Не весь реестр, сс140-145. Информпространство, Москва-Орел, 2005.
29. Шубинский-2004, с.404-405.
30. РНБ, фонд 1201, №79 (В. В. Алперс). Дневники 1910 — 1916 гг., 4 тетради: №1 — 4.12.1910 — 27.12.1912; №2 — 2.03.1912 — 13.03.1914; №3 — 15.03.1914 — 8.12.1914; №4 — 27.09.1915 — 5.07.1916. В приложении приводятся все сделанные мной выписки (с сохранением орфографии и пунктуации автора дневника), относящиеся как к Н. С. Гумилёву, так и к некоторым другим, ставшим впоследствии известными личностям. Возможно, это привлечет к дневнику внимание и других биографов. Кроме того, дневник любопытен как документ эпохи, увиденной глазами молодой девушки. Возможно, стоит опубликовать его целиком. Пока он попал только в поле зрения исследователей творчества С. С. Прокофьева.
Несколько слов об авторе дневника Вере Владимировне Алперс (1892 — 1982). В тетради №2 25 июня имеется запись: «В четверг <т.е. — 21.06.1912> <…> мне исполнилось 20 лет <…>». Следовательно, родилась Вера Владимировна Алперс 21.6.(3.07).1892 года. Дружба ее с Сергеем Прокофьевым, тогда еще мало кому известным композитором, зародилась в годы их совместного обучения в Петербургской консерватории, куда они оба поступили в 1904 году. Вера Владимировна посвятила этому воспоминания, опубликованные в сборнике: «Сергей Прокофьев. Статьи и материалы», М., 1962». Немало страниц из раннего, 1909 года, дневника своей подруги С. Прокофьев впоследствии включил в «Автобиографию» как документальные свидетельства юношеских лет (Сергей Прокофьев. Автобиография. КЛАССИКА-XXI, Москва, 2007). О семье Алперсов, богатой творчески одаренными личностями, можно прочитать в публикации «Неизбывная сила восприятия жизни». — «Советская музыка», 1991, № 2». Зародившаяся в годы знакомства их переписка была едва ли не самой продолжительной в эпистолярном наследии композитора. Переписка эта продолжалась до самой кончины композитора в 1953 году. Заметим, что умер Сергей Прокофьев 5 марта от обширного кровоизлияния в мозг через 40 минут после смерти Сталина, наступившей по той же причине… За годы совместной учебы в консерватории у Прокофьева и Алперс сложился широкий круг общих знакомых, преимущественно музыкантов. Но как следует из публикуемых мною страниц дневника, музыкантами круг знакомств не исчерпывался. Фотографии Веры Алперс удалось найти благодаря помощи сотрудников музея С. Прокофьева при детской музыкальной школе №1 им. С. Прокофьева. Опубликованы они в книгах: «Сергий Прокофьев. Дневники 1907-1933. В 3-х томах. Paris, sprkfv., 2002», и «Сергей Прокофьев. Автобиография. М., Классика XXI, 2007».
31. Об этом много (чрезмерно!) написано в комментариях к рассказу (ПСС-6, сс.446-463); есть записи со слов Ахматовой у Лукницкого (Лукницкий-I, сс.137-138).
32. В дневнике Веры Алперс фамилия Бушен встречается неоднократно. Это сестра упоминаемого здесь художника Дмитрия Дмитриевича Бушена (1893 — 1992), Анна Дмитриевна Бушен, музыковед. О Дмитрии Бушене смотрите воспоминания «Со мной говорил Гумилёв…» в книге «Жизнь Гумилёва-1991», сс.85-88. Дмитрий Бушен состоял в родстве с Кузьмиными-Караваевыми, имение которых Борисково находилось недалеко от Слепнева. Между матерью Гумилёва, урожденной Львовой, и Кузьмиными-Караваевыми тоже существовали прямые родственные связи. Отметим еще одну, пока, к сожалению, не распутанную «родственную» связь: в обозначенных выше воспоминаниях Татьяны Адамович (примечание 5) есть такая фраза: «…Мой кузен, Димка Бушен, в то время — ученик Академии искусств, приглашал своих коллег, молодых художников, которые зачастую делали эскизы портретов наиболее знаменитых наших гостей…» До сих пор Татьяну Адамович связывали с Гумилёвым только через ее брата, поэта Георгия Адамовича. Оказывается, что в жизни хитросплетения судеб значительно сложнее, и если Татьяна Адамович не ошибается, она находится в каком-то родстве и с Гумилёвым! Эту «задачу» мне решить пока не удалось. Отметим, что когда делалась эта запись в дневнике Веры Алперс, 24 августа, и она была «весь день занята Гумилёвым», сам поэт уже 10 дней пребывал под Новгородом, осваивая воинское искусство.
33. Подробно об этом смотрите мои комментарии в ПСС-8, сс.343-344.
34. РГВИА, ф.3549, оп.1, д.284. Об истории чудом сохранившихся военных документов Гумилёва смотрите «Неакадемические комментарии-3», примечание 5.
35. Там же.
36. РГВИА, ф.8034, оп.1, д.59, л.669.
37. РГВИА, ф.409, №153-923 (№176788).
38. ИРЛИ, Р.1. Оп.5, №499.
391. Собрание сочинений в 4 томах. Том четвертый. Вашингтон, 1968. сс.535-536. Из письма Ю. В. Янишевского Д. В. Лихачеву от 11 сентября 1966 года. При дальнейшем комментировании «Записок кавалериста» его имя еще будет фигурировать, так как в полковых документах он упоминается неоднократно, часто — в неожиданных ситуациях.
40. РГВИА, ф.3509, оп.1, д.1186
41. РГВИА, ф.3549, д.236.
42. Составленный 10 мая 1917 года в 5-м Гусарском Александрийском полку «Послужной список» опубликован в книге «Исследования-1994», с.258. Оригинал — РГВИА, ф.409, оп.2, д.38441.
Автор выражает благодарность сотрудникам Музея С. С. Прокофьева при детской музыкальной школе №1 им. C. Прокофьева, в частности, директору музея Ирине Евгеньевне Прохиной и заведующей библиотекой Вере Николаевне Горшковой.
Отдельная, глубокая благодарность — Роману Тименчику, за редактирование работы, важные замечания и дополнения.
