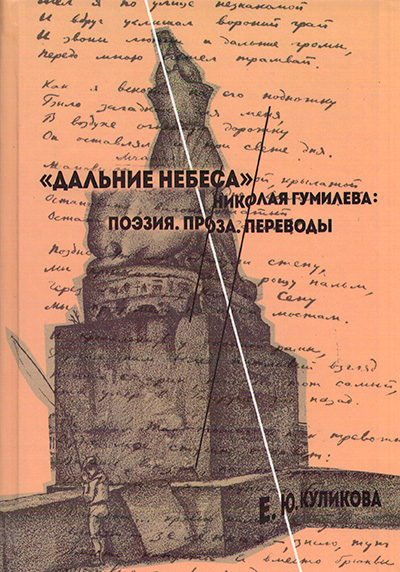О магистральных и маргинальных путях русской поэзии: «чужие звезды» Николая Гумилёва и Павла Булыгина
Рассматривается одна из магистральных тем Серебряного века – тема путешествий и экзотических стран в творчестве Николая Гумилёва и Павла Булыгина – поэта и прозаика, покинувшего Россию после революции.
Гумилёв создает оригинальный образ Востока и Африки под влиянием французской поэзии и по собственным путевым впечатлениям, формирует новые концепты русского исторического самосознания, совмещающие в себе как западные, так и восточные черты. В работе отмечается обращение Гумилёва к фовистам (А. Матиссу, А. Дерену), «дикая» выразительность красок которых апеллировала к «дикому» началу в человеке, поворачивала его к миру первозданной природы.
Для Булыгина важен гумилёвский подтекст, почти мистическая канва образов, сюжетные повороты. Булыгин жил в Абиссинии в 1924–1933 гг., об этой стране он писал, вдохновленный Африкой Гумилёва. Рисуя Абиссинию, Булыгин вводит сновидческое пространство, строки «маргинального» поэта рождаются под абиссинским небом, и время при этом становится одномоментным для Булыгина и Гумилёва.
В статье анализируются ранние новеллы («Черный Дик») и лирика («Гиена», «Ужас», поэтическая книга «Шатер») Гумилёва, а также его «Африканский дневник», и очерки Булыгина «Соу Джин» («Человек-гиена». Очерк из абиссинской жизни), «Обезьянья царица», «Занду и Шанко» и стихотворения из сборника «Чужие звезды».
На первых страницах своей книги «Пушкин. Тютчев. Опыт имманентных рассмотрений» Ю. Н. Чумаков написал, что «Пушкин и Некрасов проходят по магистральному пути русской поэзии, а Тютчев, сравнительно с ними, поэт маргинальный» [Чумаков, 2008, c. 8]. Эту замечательную метафору можно использовать относительно двух авторов – Николая Гумилёва и Павла Булыгина. Прямую аналогию между выбранными поэтами и Пушкиным и Некрасовым, с одной стороны, и Тютчевым, с другой, проводить не имеет смысла. Ю. Н. Чумаков имел в виду «теневую позицию» Тютчева, для Гумилёва и Булыгина этот образ видится в другом аспекте.
Одна из магистральных тем Серебряного века – тема путешествий и экзотических стран – пришла к Гумилёву от французских поэтов, заметно обновивших ориентальную мотивику европейской культуры: Ш. Леконта де Лиля, Ш. Бодлера, А. Рембо. Под влиянием французской поэзии и по собственным путевым впечатлениям Гумилёв создает оригинальный образ Востока и Африки, формируя новые концепты русского исторического самосознания, совмещающие в себе как западные, так и восточные черты. Экспериментируя с редкими жанрами, например с малайским пантуном, Гумилёв обогащает устоявшийся жанровый репертуар русской поэзии, ставит пантун в один ряд с сонетом, рондо, терцинами, октавами и другими хорошо освоенными твердыми формами.
Создание образа Востока у Гумилёва опирается не только на европейскую традицию, но и на собственные африканские путешествия. Освоение новых пространств, во всяком случае, стран, мало привычных для белого человека, привлекает поэта и наполняет вдохновением. «Первобытный мир с девственной природой Гумилёв находил в экзотических странах. Только там поэт – Адам – мог обрести свой первозданный рай, и там путешественник Гумилёв ощущал радость и полноту бытия… Поэт-акмеист уподоблялся первому человеку – Адаму» [Полиевская, 2006, c. 5]. Именно этот путь, избранный Гумилёвым, и можно назвать одним из магистральных для русской поэзии Серебряного века.
Несмотря на очевидное влияние французской культуры и увлечение африканскими мотивами многих французских художников (например, Дерена, Матисса, Гогена, Пикассо), «уже современники и соратники по второму “Цеху поэтов” отмечали, что экзотизм африканских стихов Гумилёва обладает совсем иной породой, нежели “экзотизм Гогена и все, что ему родственно”… Если в пассивном экзотизме Гогена Адамович видел выдумку мечтательного и усталого поколения, “отвыкшего от действия и ищущего утешения и обмана”, то в африканских стихах сборника “Шатер” поэт и соратник Гумилёва по второму Цеху совершенно справедливо усмотрел желание одухотворить “огромную, беспредельную во всех измерениях материю”, преобразить движением, поэтическим ритмом “косный сон стихий”» [Раскина, 2009, c. 6–7].
Экзотические мотивы волновали Гумилёва также через Брюсова и Бальмонта и тягу символистов к экзотическим странам. Мечты и стихи, в которые они вылились в «африканских» стихах поэта, оказались настолько убедительными, что долгое время считались именно впечатлениями, а не чистым вымыслом. Размышляя о ранних стихах Гумилёва, А. Б. Давидсон отмечает, что его жирафы и леопарды «порождены не подлинным морским и тропическим миром, не Африкой, а Монпарнасом… навеяны… Леконтом де Лилем, Бодлером, Кольриджем, Стивенсоном, Киплингом» [Давидсон, 1992, c. 41].
Между тем они воплотились в жизни Гумилёва практически полностью: его дальнейшее творчество продолжило эту отчасти символистскую традицию, обращенную к романтизму с его пристрастием к азиатскому, кавказскому и восточному колориту. По словам Н. Оцупа, «модернисты открывают новую Европу. Их привлекает прежде всего Франция, но они также чувствительны к чарам Азии, Африки, Дальнего Востока, древних исторических и даже доисторических времен… В то время как мэтры модернизма ограничивались кабинетными путешествиями в историю и географию народов… Гумилёв лелеял мечту посетить далекие страны, увидеть собственными глазами другую природу, другие костюмы и цвета, слушать песни и молитвы диких племен» [Оцуп, 1995, c. 25].
Большинство африканских впечатлений отражено в стихах сборника «Шатер», изданного в Севастополе в 1921 г.1, – последнего прижизненного сборника Гумилёва. Поэт сделал подзаголовок: «Стихи 1918 г.», тем самым подчеркнув документальность личных переживаний в описании любимой страны. Гумилёв видит мир сказочным и экзотическим, опираясь на личные впечатления, которые одновременно вымышлены и, безусловно, прожиты, вычитаны из книг и пройдены буквально сотнями дорог.
География Гумилёва-путешественника подчинена литературным принципам: пространство «собирается» из цитат, которые выдаются за «впечатления», но в то же время остаются цитатами, отчего стихи обретают «картинность», становятся «артистическими стихами», не позволяющими забыть об условности того яркого мира, который создает поэт.
Гумилёв «сочиняет» африканский мир, исследуя его как путешественник и как поэт. Не только сборник «Шатер» и некоторые другие стихотворения и переводы Гумилёва посвящены этому удивительному континенту. Есть и документальная проза – «Африканский дневник» (1913), который представляет собой ряд путевых заметок «странствующего поэта»: четыре его главы – точно «введение» к основной части, внезапно оборванное перед собственно самим африканским путешествием. «Африканский дневник» состоит из ряда очерков, воссоздающих впечатления Гумилёва на определенном отрезке пути, и предыстории поездки. Рассматривать его как исключительно исторический документ очеркового характера или же как художественный травелог, продолжающий ряд «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина или «Путешествия в Арзрум» А. С. Пушкина, – вопрос, который так или иначе возникал у исследователей творчества Гумилёва2.
Историческая значимость дневника и «реальность» происшествий, происходящих с героями, – первый и основной критерий для определения его жанровой сущности – документального очерка3. Безусловно, в «Африканском дневнике» есть и черты художественности, проявляющиеся в многочисленных поэтических описаниях, и черты документальные, поэтому текст Гумилёва интересен и филологам, и историкам. Взаимодействие поэзии, прозы и «факта» в творчестве Гумилёва – вот сочетание, которое делает его «путевые заметки» одновременно литературным произведением и историческим очерком. Дневник оказывается своего рода материальным фоном, как бы «фабулой» лирического сюжета стихов Гумилёва. Литературность географии содержит в себе динамический потенциал: она расширяет границы лирического «я», наделяя его множеством условных ролей, которые ставятся вровень с биографической судьбой.
Итак, один из «магистральных путей» литературы – обращение к Востоку и Африке, был поддержан многими «младшими» поэтами. Культ акмеистов, особенно Гумилёва, был характерен для литературного Китая, «Чураевки». «“Круг поэтов” даже в названии повторял “Цех поэтов”, в 1929 г. в Харбине был издан гумилёвский сборник “Лестница в облака”, последней общей книгой Харбина стал “Гумилёвский сборник” 1937 г.» [Капинос и др., 2017, c. 89].
В частности, Африка Гумилёва вдохновила незаслуженно забытого ныне поэта и новеллиста Павла Булыгина, покинувшего Россию после революции и расследовавшего дело об убийстве императорской семьи, чему посвящена его книга «Убийство Романовых. Достоверный отчет». Гумилёв был любим Булыгиным и за творчество, и за судьбу – такую показательную после революции. На судьбе и творчестве П. Булыгина можно показать «маргинальный путь» русской литературы – литературы, отправленной в изгнание, эмигрантской.
Булыгин родился в 1896 г. Учился в Московском Александровском Высшем военном училище, участвовал в Первой мировой, а после Февральской революции его изгнали из полка как «контрреволюционера». Был контужен, ранен в Ледяном походе Корниловской армии. Вылечившись в госпитале, Булыгин набрал группу офицеров Петроградского и других Гвардейских полков, чтобы освободить Николая II из плена. Но в июле 1918 г. его арестовали, а через десять дней он бежал. Булыгин снова пытался организовать спасение царя, не зная еще, что тот был убит во время его заключения.
В конце 1918 г. Булыгина отправила с посланием к английской королеве Александре вдовствующая императрица Мария Федоровна: в послании содержалась просьба помочь с расследованием обстоятельств убийства царской семьи. С января 1919 г. Булыгин находился в войсках Восточного фронта адмирала А. В. Колчака. С августа 1919 г. поступил в распоряжение следователя Н. А. Соколова для расследования дела об убийстве императорской семьи. Через Владивосток, Харбин и Белград Булыгин добрался до Парижа, там вместе с Н. А. Соколовым он продолжал расследование дела. После разгрома армии А. В. Колчака материалы следствия вывезли во Францию.
В 1921–1922 гг. Булыгин жил в Берлине, некоторое время – в Риге и Каунасе, с 1924 по 1934 г. – в Аддис-Абебе. В январе 1934 г. переехал в Прибалтику, где близ Риги жила мать его жены – художницы Агаты Шишко-Богуш. Получил приглашение старообрядческой общины Литвы образовать поселение в Парагвае у слияния рек Парана и Парагвай, что и было им осуществлено. Умер Булыгин в Асунсьоне 17 февраля 1936 г. в день военного переворота, возглавляемого полковником Рафаэлем Франко.
К десятой годовщине убийства царской семьи (1928 г.) опубликовал в рижской русскоязычной газете «Сегодня» (№ 211 за 7 августа) статью «Роль Ленина в Екатеринбургской трагедии (По личным воспоминаниям участника расследования Н. А. Соколова)». А в 1935 г. в Лондоне на английском языке вышла книга, в которой под одной обложкой были опубликованы мемуары А. Керенского «Путь к трагедии» и доработанные Булыгиным и переведенные сыном Керенского очерки Булыгина под названием «Убийство Романовых. Достоверный отчет».
В 1930 г. на конкурсе зарубежных поэтов и писателей, проходившем в Варшаве, первой премии была удостоена его поэма «Пороша», написанная онегинской строфой и посвященная Бунину. В 1937 г. в Риге его жена издала на свои средства сборник стихов «Янтари».
В России в 1998 г. по инициативе внучатой племянницы Булыгина Т. С. Максимовой был издан сборник «Пыль чужих дорог», в 2009 г. – более полное собрание стихов, рассказов и публицистики под тем же названием. В 2010 г. – рассказы «Страницы ушедшего», в 2014 г. – книга об убийстве императорской семьи4.
Жизнь Павла Булыгина «напоминала сказку, занимательный роман, повесть о днях беспокойного сердца, рассказ о человеке, не желавшем покоя, всегда стремившемся в неизвестную даль» [Пильский, 1937, c. 8].
Одна из важных тем в творчестве Булыгина – экзотическая, точнее, африканская. Он жил в Абиссинии (ныне – Эфиопия) в 1924–1933 гг., об Абиссинии он писал, вдохновленный Африкой Гумилёва.
В Аддис-Абебе Булыгин состоял инструктором пехоты армии Негуса (императора), работал управляющим кофейной плантацией в Дубоне, во французской железнодорожной компании, писал стихи, книгу «Убийство Романовых». В Абиссинии Булыгин написал ряд очерков – «Современная Абиссиния», «Русские в Абиссинии», «Жизнь русских в Абиссинии». «Его всегда тянуло к необычному, его звали дальние страны, экзотические миры, необычайная обстановка», – отмечал в предисловии к книге «Янтари» известный в русской эмиграции критик Пeтр Пильский [Булыгин, 1937, c. 5].
Абиссинии посвящен и сборник стихов Булыгина «Чужие звезды», что дает прямую отсылку к «Чужому небу» Гумилёва. Но не только на эту поэтическую книгу ориентирован Булыгин, как можно судить по заголовку, но и на «Шатер», и на многие экзотические стихотворения, баллады и новеллы Гумилёва разных лет.
Африканские рассказы Булыгина – это очерки и впечатления, описывающие быт аборигенов. Как и «Африканский дневник» Гумилёва, очерки Булыгина сочетают в себе элементы документалистики и черты художественности: они построены в форме новелл, почти в каждой в финале разрешается какая-то загадка, связанная со странными, на европейский взгляд, традициями абиссинцев.
В рассказе «Соу Джин» («Человек-гиена») (Очерк из абиссинской жизни) речь идет о человеке-гиене: это странное существо, о котором поведал герою-повествователю Абачанака – его местный слуга. Соу Джин
обыкновенно угрюм, но, если встретив человека, скажет ему похвалу, погладит ребенка или саблю воина – заболеет ребенок и заржавеет “гурада”5. Днем он работает в поле, как все, но лишь стемнеет… крадется чащей голый, черный старый человек на четвереньках. Теперь он – гиена, он повторяет все ее ухватки и ухает, подражая ей… человек становится зверем, злее и отважнее зверя [Булыгин, 2010, c. 31].
Когда рассказчик встречается с Соу Джином, он описывает его глаза так: «темнота глянула оттуда, темнота черных веков грозной пустыни» [Булыгин, 2010, c. 33].
Очерк Булыгина перекликается с новеллами Гумилёва «Черный Дик» (1908), стихотворениями «Гиена» (1907) и «Ужас» (1907) – текстами, в которых явно описан мотив «оборотничества» – превращения человека в зверя. «Уже первые критики, обратившиеся к раннему творчеству Гумилёва, особо отмечали пристрастие поэта к “бестиарной” образности, причем для большинства из них эта особенность творчества поэта вызывала иронические замечания» [Золотухина, 2009].
В стихотворении «Гиена», африканский топос которого четко обозначен в начале («Над тростником медлительного Нила»), Гумилёв приводит монолог зверя:
Смотри, луна, влюблённая в безумных,
Смотрите, звезды, стройные виденья,
И темный Нил, владыка вод бесшумных,
И бабочки, и птицы, и растенья.
Смотрите все, как шерсть моя дыбится,
Как блещут взоры злыми огоньками,
Не правда ль, я такая же царица,
Как та, что спит под этими камнями?
В ней билось сердце, полное изменой,
Носили смерть изогнутые брови,
Она была такою же гиеной,
Она, как я, любила запах крови
[Гумилёв, 1988, c. 97].
Повествование в балладе «Ужас» ведется от первого лица и выдается за страшный мистический сон. Герой «одиноким шагом» ночью пересекает неведомое пространство, наполненное враждебными объектами («статуи из ниш», «в угрюмом сне застыли вещи», «в тени столпившихся колонн»), и гибель его ждет при встрече с человеком-зверем:
И там, где глубже сумрак хмурый,
Мой взор горящий был смущен
Едва заметною фигурой
В тени столпившихся колонн.
Я подошел, и вот мгновенный,
Как зверь, в меня вцепился страх:
Я встретил голову гиены
На стройных девичьих плечах.
На острой морде кровь налипла,
Глаза зияли пустотой,
И мерзко крался шепот хриплый:
«Ты сам пришел сюда, ты мой!»
[Там же, c. 99–100].
Страх сравнивается со зверем, что словесно умножает переживание героя. Безумное видение напоминает маскарадный наряд, когда на голову человека надевается маска в виде морды какого-либо животного.
В новелле «Черный Дик» нет экзотического пространства, но в финале жестокий и своевольный герой оборачивается зверем:
Черный Дик несся впереди всех, и видны были только его широкая спина и худощавые мускулистые ноги, делавшие огромные прыжки… девочка… жалобно взмахнув руками, покатилась в пропасть... Дик протяжно завыл и прыгнул вслед за ней. Мы остановились в тревоге, потому что, хотя и знали, как хорошо он прыгал, но нас смутил его странный, совсем нечеловеческий вой...
Мы приблизились к разбившейся и вдруг отступили, побледнев от неожиданного ужаса. Перед ней, вцепившись в нее когтистыми лапами, сидела какая-то тварь, большая и волосатая, с глазами, горевшими как угли. С довольным ворчанием она лизала теплую кровь, и, когда подняла голову, мы увидели испачканную пасть и острые белые зубы, в которых мы не посмели признать зубы Черного Дика. С безумной смелостью отчаяния мы бросились на нее, подняв багры. Она прыгала, увертывалась, обливаясь кровью, злобно ревела, но не хотела оставить тела девочки. Наконец, под градом ударов, изуродованная, она свалилась на бок и затихла, и тогда лишь, по обрывкам одежды, могли мы узнать в мертвом чудовище веселого товарища – Черного Дика [Гумилёв, 2005, c. 46].
Интересно то, как Булыгин «реагирует» на тексты Гумилёва. Он создает свой этнографический очерк без намека на какие-либо элементы фантастики, его рассказ основан на событиях, произошедших в Абиссинии, но отсылки к художественным текстам с ирреальными элементами (пожалуй, даже чертами хоррора) говорят о литературной направленности очерка. Интертекст в данном случае оказывается двойственным: если у Гумилёва образ «человека-зверя» в ранних его произведениях лишь косвенно связан с экзотическим миром (а в «Черном Дике» так и вообще этого нет), то Булыгин использует фантастические мотивы для подчеркивания местного колорита, играя с обычаями абиссинцев и их суевериями. Столкнувшись с Соу Джином, Абачанака заболевает – и это следствие встречи, по мнению абиссинцев. Заканчивает рассказ Булыгин так: «Только удвоенная порция опиума и черного кофе помогли мне справиться с чарами рассерженного Соу Джина» [Булыгин, 2010, c. 33]. Интонация у писателя напоминает реплики Максима Максимыча из «Героя нашего времени» Лермонтова: Максим Максимыч, описывая осетинские нравы, слегка иронизирует и как будто посмеивается.
В сборнике стихов Булыгина «Чужие звезды» есть стихотворение с таким же названием, как и рассказ – «Соу Джин» («Человек-Гиена»). Некоторые строки буквально повторяют прозаический текст:
Если, встретив ребенка, похвалит его,
Саблю воина тронет рукою,
Заболеет дитя ни с того, ни с сего,
И гурада покроется ржою…
[Булыгин, 2009, c. 238].
Булыгин вводит слова из африканских языков для создания яркого колорита, поясняя их в примечаниях: «чарака» (луна), «гурада» (сабля), «чака» (кустарник, лес), «альгораш» (наместник, правитель), подобно тому, как это делал Гумилёв в своем художественно-документальном дневнике.
Ритм стихотворения Булыгина (чередование 4- и 3-стопного анапеста) отсылает к текстам Гумилёва, часто использующего в «Шатре» анапест вообще, а именно такое чередование в «Сахаре», «Галле», «Сомалийском полуострове» (в последнем, правда, рифмовка смежная, а не перекрестная).
Финал стихотворения Булыгина сделан в духе гумилёвских концовок, например «Абиссинии» (характерно, впрочем, упоминание леопарда в стихотворении о «гиене»):
| И я вижу, как знойное солнце пылает, Леопард, изогнувшись, ползет на врага, И как в хижине дымной меня поджидает Для веселой охоты мой старый слуга [Гумилёв, 1988, c. 295]. |
Как ни грозен в лесу леопард-господин, Как ни страшны тюремные стены, В каждом округе есть свой, наверно, один Или два человека-гиены [Булыгин, 2009, c. 238]. |
Можно выделить среди «гумилёвских» сюжетов у Булыгина еще один. Назовем его «обезьяний» сюжет. Новелла Булыгина «Обезьянья царица» построена как исключительно документальный рассказ про обезьян, с которыми герою пришлось столкнуться и которые объявили ему войну на кофейной плантации. Они губили ветки с ягодами, вырывали молодые побеги – создавалось впечатление, что обезьянье племя действует по определенному плану. Когда же повествователь убил «негисту» (императрицу) и «забанью» (сторожа), его африканский слуга посоветовал уехать из этих мест, не объясняя причины. Через два года герой узнал, что обезьяны вернулись после его отъезда и ограбили огород.
Казалось бы, никакого мистического подтекста в рассказе нет, это просто история о столкновении с обезьянами, о которых сказано в самом начале: «Я люблю обезьян. Я всегда их любил. Еще со времен детства» [Булыгин, 2010, c. 35]. Однако «враждебные действия» тоток заставляют героя с ружьем в руках отстаивать плантацию. Самым же удивительным для него оказывается их реакция – они мстят человеку, погубившему их «императрицу». Для самого повествователя этот момент не поддается рациональному объяснению.
Между тем если вспомнить новеллу Гумилёва 1908 г. «Лесной дьявол», то можно вполне увидеть заданный контекст. Новелла входит в ряд почти фантастических. Хотя ее действие и происходит в Западной Африке, это совсем не натуралистический очерк, а экзотическое повествование о событиях VII–VI вв. до нашей эры. И как будто никакого сходства с документальными записями Булыгина оно не имеет, но мы полагаем, что история про обезьян была создана не без воздействия этой романтической новеллы Гумилёва.
Старый павиан, ужаленный змеей, выглядит вполне человечно, а текст построен по сюжету о красавице и чудовище. Страх быть погубленной ужасной обезьяной трансформируется в душе героини в странное, сложное чувство к существу, которое, как полагает девушка, было убито по ее мольбе богине Истар. Булыгин в своем совсем не романтическом и не наполненном трагической динамикой очерке тоже подчеркивает свое двойственное отношение к обезьянам.
Тем не менее, в том и другом случае – и в фантастической новелле Гумилёва, и в документальном очерке Булыгина – животные выступают в какой-то особенной человеческой ипостаси. Они мыслят: в «Обезьяньей царице» это видно по их действиям, логически выверенным и выстроенным – как при разрушении плантации, так и в качестве мести убийце; в «Лесном дьяволе» практически «от лица» павиана написаны первые две части – он ищет целебную траву, он убивает коня, он поражен красотой украденной девушки.
В очерке Булыгина «Занду и Шанко» всплывает история о «глупой обезьяньей жене» – девочке Шанко. Она была украдена большими обезьянами, а когда ее нашли односельчане, «она пыталась спастись от них на дерево… и, схваченная, царапалась и кусалась» [Булыгин, 2010, c. 67]. Повествователь интересуется этим «одичавшим, злым и пугливым существом», дарит ей кусок медной проволоки в виде браслета. И тогда Шанко рассказывает ему, что «обезьяна, укравшая ее, жила с ней, как муж, и щипала ее» [Булыгин, 2010, c. 67]. Однако другой возможности расспросить девочку не представляется, так как она пропадает. В финале повествователь узнает, что Шанко стала жертвой удава Занду, подстерегающего людей и животных. Последняя фраза рассказа: «Здесь кончила свои дни бедная Шанко, черная жена обезьяны» [Булыгин, 2010, c. 68].
В сюжете абиссинского рассказа Булыгина «В караване» косвенно обыгрывается инцидент между двумя агафари (старшими абиссинскими слугами) – Габризгером и Асфау, – ссора и примирение двух старых друзей (подобно разладу Берестова и Муромского из пушкинской «Барышни-крестьянки»). В драматической истории о переправе участвует не только едва не погибший сын Габризгера Вандему, но и обезьяна-каницифал Мака. Чудесное спасение мальчика от крокодила благодаря смелости и ловкости Асфау обрамлено описанием поведения Маки – испугавшейся до смерти, когда один крокодил напал на мула, а другой бросился на Вандему:
…обезьяна… завизжала6… Мальчишка и обезьяна бросились в воду и поплыли… обезьяна с воплем обвила его ноги и оба покатились в воду… Асфау выскочил со спасенным мальчиком на берег. Обезьяна, визжа, моталась сзади, держась за хвост коня» [Булыгин, 2010, c. 57–58].
Страх обезьяны оттеняет поведение и чувства героев: мальчик тоже боится, но лицо его отражает «недоумение и испуг» [Булыгин, 2010, c. 57], и при виде крокодила он «взвизгнул», в то время как Мака, почуяв опасность, бесконечно вопит и визжит. Дублируя скрываемые чувства персонажей, каницифал демонстрирует гамму живых непосредственных переживаний.
Сюжетная перекличка новелл Гумилёва и Булыгина основана на интересе к миру Африки обоих писателей. Но важно то, что в рассмотренных текстах граница между человеком и зверем оказывается так тонка, что ее легко переступить. Потерять разумное начало очень просто, особенно потому, что в душе человека есть дикая животная сущность, в то время как зверь на какое-то мгновение может обрести человеческую логику и силу чувств.
Гумилёв с его вниманием к европейской художественной культуре начала века не мог пройти мимо фовистов, «дикая» выразительность красок которых апеллировала к «дикому» началу в человеке, поворачивала его к миру первозданной природы. А. Матисс и А. Дерен не только экспериментировали с красками, но и открывали новые миры, новые переживания, как бы снимали с цивилизации несколько слоев и показывали изначальную красоту бытия. Не случайно они изменили и укрупнили пространство и объем рисунка, свели форму к простым очертаниям, отказавшись от светотени и линейной перспективы.
Описывая быт абиссинцев, Гумилёв проделывает что-то подобное: оставляя повествователя-европейца в прозе и лирического героя в стихах, он вводит резкие штрихи другого мира, где живут другие люди, подчеркивает их сознание – отличное от сознания цивилизованного человека. Это отчетливо видно в стихотворении «Экваториальный лес»: через бред умирающего француза открывается дикая и безумная для белого человека сторона первобытия и чистой природы. В некоторых же случаях в «Шатре» истории рассказываются от лица туземца («Дагомея», «Замбези»).
И из ранних новелл Гумилёва мы можем увидеть стремление к открытию дикого, пугающего начала в человеке. Хотя «Черный Дик» никак не связан с африканской тематикой, а, скорее, с готическими повестями Р. Стивенсона «Веселые молодцы», «Похититель трупов» и «Окаянная Дженет» (как отмечал Вс. Рождественский), но оттенок будущих абиссинских мотивов отчетлив и в этом тексте.
В эссе И. Анненского «Дионис в легенде и культе»7 говорится именно о таком – «природном» – начале в человеке: «Всё в старейших оргиях Диониса говорило об экстазе: утомительные пляски, кружение… бег8, дикие завывания, опьяняющий шум флейт, кимвалов и типанов, одуряющее действие крови от раздираемых и пожираемых сырьем животных, хмельные напитки… самая одежда и весь вакхический обряд, казалось, имел целью вырвать человека из его обычной среды и сравнять, слить его с природой»9 [Анненский, 2012, c. LXX–LXXI].
Начало ХХ века в культуре ознаменовано поворотом к экзотике отчасти еще и потому, что эта культура не была слишком отделена от природы, от «дикого», свободного начала, живущего в примитивном, первобытном, а значит, настоящем человеке.
«Противопоставление дионисийского и аполлонического начал, сформулированное Фридрихом Ницше в книге “Рождение трагедии из духа музыки”… сыграло чрезвычайно важную роль в культуре Серебряного века» [Рубинс, 2003, с. 116]. Антитетичность Аполлона и Диониса определила во многом сущность поэтики акмеистов. Аполлоническое начало для акмеистов стало не просто воплощением чистого и гармоничного искусства, но именно в основе этого взгляда можно увидеть тот необходимый строительный аспект, без которого нельзя представить пространственное «оформление» их текстов.
Однако Гумилёв, как любой истинный художник, не мог осмыслять бытие однонаправленно: красочность и яркость его экзотических описаний, интерес к Африке и ее искусству, «фовистские» сюжеты его новелл говорят и о тяготении ко второму – дионисийскому пути в его творчестве.
Ощущение этого вербального «фовизма» в произведениях Гумилёва уловил Булыгин и отразил в своих очерках. Погружаясь в почти фантастическое пространство Африки, Булыгин идет по магистральному пути поэзии Гумилёва:
Я люблю этот край, я люблю эти дали,
Я люблю вечерами сидеть у огня.
Здесь недавно еще Гумилёва встречали,
А теперь эти звёзды ласкают меня
[Булыгин, 2009, c. 256].
Разговор одного поэта с другим – тема не новая: Ахматова знала, где «лежала треуголка» Пушкина, Цветаева бежала с Пушкиным «за руку вниз по горе», Маяковский прижимал руку Пушкина к своей груди, а Мандельштам «с лихорадочной завистью» жал «в белой перчатке холодную руку» Батюшкова. И звезды Абиссинии, ласкавшие когда-то Гумилёва («Как любил я бродить по таким же дорогам, / Видеть вечером звезды, как крупный горох» [Гумилёв, 1988, c. 295]), светят для Булыгина, и все, что видел Гумилёв в Африке, предстает перед взором второго поэта – младшего и не столь, быть может, яркого, но тоже русского офицера, видевшего те же сны:
А ночами, когда к моей хижине бедной
Подступают вплотную все сказки лесов, –
Нахожу я в душе смутный клад заповедный
Днём непонятых дум, неразгаданных снов
[Булыгин, 2009, c. 256].
«Лирика близко соприкасается с онейрическим миром» [Чумаков, 2010, с. 49], и кажется, что строки Булыгина рождаются на пересечении пространства двух поэтов – под этим абиссинским небом, и время при этом сливается, становится одномоментным для Булыгина и Гумилёва. «Лирика актуализирует сильнее ракурс пространства, а не времени… Лирика, и это ее черта, обладает точечным пространством и вот-вот готова взорваться временем» [Чумаков, 2010, с. 49].
Караван, несколько раз помянутый у Булыгина, символизирует и дорогу – змеящуюся линию, ведущую вглубь страны, и обозначает не только пространство, но и время: это длящееся движение, которое, с одной стороны, застывает, чтобы превратиться в живописную картину, с другой – показывает постоянство африканского мира, работорговли, густых лесов, лиловых далей, баобабов и мимоз. А знаменитые строки Гумилёва «Восемь дней от Харрара я вел караван» и «Восемьдесят дней шел мой караван» создают словно новую временну́ю перспективу: долгие дни пути, описанные поэтом (отметим цифровую рифму: восемьдесят и восемь дней), продлевают время в тексте Булыгина, оно становится неопределенным и бесконечным под этими вечными чужими звездами.
В очерке «В караване» Булыгин подчеркивает это застывание времени и пространства:
Караван – это звучит заманчиво, а главное, необычайно. Действительно, только тот, кто испытал это на себе, может понять всё очарование неторопливого, день за днем погружения в глубину уснувшей страны и постепенного впитывания в себя колорита и самой души её [Булыгин, 2010, c. 54].
Вновь вводится сновидческое пространство, но акцент делается уже не на снах рассказчика, а на сне самой страны.
Стихотворение Булыгина «Только спустишься вниз по скалистым отрогам…» ритмически близко «Абиссинии» из «Шатра». Оно написано четырехстопным анапестом с женской клаузулой в первом стихе и мужской во втором. Как и Гумилёв, Булыгин говорит о любимой стране, подчеркивая ее первозданную, Божественную сущность, схожую с Эдемом:
Дикий кофе повсюду свободно растет,
Бог дал людям обильную быструю реку,
А река двухаршинную рыбу дает
[Булыгин, 2009, c. 256].
В третьей главе «Африканского дневника» Гумилёва описание дороги в Харар имеет косвенные переклички со стихотворением «Судан»:
| Дорога напоминала рай10 на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде [Гумилёв, 2005, с. 87]. |
А кругом на широких равнинах, Где трава укрывает жирафа, Садовод Всемогущего Бога В серебрящейся мантии крыльев Сотворил отражение рая: Он раскинул тенистые рощи Прихотливых мимоз и акаций, Рассадил по холмам баобабы, В галереях лесов, где прохладно И светло, как в дорическом храме, Он провел многоводные реки И в могучем порыве восторга Создал тихое озеро Чад [Гумилёв, 1988, c. 291–292]. |
«Рай на хороших русских лубках» отзывается в строках: «Садовод Всемогущего Бога… Сотворил отражение рая». В «Африканском дневнике» Гумилёв, скорее, удивляется необычной, практически картинной, словно придуманной красоте африканского мира: «неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов». Для путешественника-европейца все выглядит нарочитым, нереальным, отсюда возникает сравнение с яркими красками русского лубка. В стихотворении «Судан» африканские равнины напоминают райские места, но вовсе не заимствованные из стилизаций под лубок, а представляющие собой некое первозданное идиллическое пространство – перифраз цитаты из Библейских или мифологических сказаний.
«На старинных виньетках часто изображали Африку в виде молодой девушки, прекрасной, несмотря на грубую простоту её форм, и всегда, всегда окруженной дикими зверями» [Гумилёв, 2005, c. 100], – так начинается «Африканская охота» Гумилёва, который «сочиняет» африканский мир, исследуя его как путешественник и как поэт. Он видит экзотическое пространство разным, поэтически описывая его и в документальном дневнике, и в фантастических рассказах, и в балладах, и в лирических стихотворениях, а в прозе Булыгина на первый взгляд преобладает этнографический аспект. Его тексты выглядят как документальные очерки-эссе. Однако это только внешнее впечатление. Для Булыгина важен гумилёвский подтекст, почти мистическая канва образов, сюжетные повороты. Не случайно финал каждой его новеллы таит в себе пуант, открывающий странный и загадочный мир Абиссинии.
Список литературы
Анненский И. Ф. Дионис в легенде и культе // Анненский И. Ф. Эврипид – поэт и мыслитель; Дионис в легенде и культе. В приложении трагедия Эврипида «Вакханки» с параллельным греческим текстом. 2-е изд. М., 2012. С. LXVII–C.
Бронгулеев В. В. Африканский дневник Н. Гумилёва // Наше наследие. 1988. № 1. С. 79–87.
Булыгин П. Пыль чужих дорог: Собрание стихотворений. М.: Academia, 2009. 480 с.
Булыгин П. Страницы ушедшего: Рассказы. М.: Изд-во ACADEMIA, 2010. 108 с.
Булыгин П. Янтари. Рига, 1937. 152 с.
Гумилёв Н. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.: Воскресенье, 2005. Т. 6: Художественная проза. 544 с.
Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1988. 632 с.
Давидсон А. Муза странствий Николая Гумилёва. М.: Наука, Изд. фирма «Восточная литература», 1992. 319 с.
Золотухина Н. А. Поэтика новелл Н. С. Гумилёва 1907–1909 годов. Харьков, 2009. URL: https://gumilev.ru/about/133/
Капинос Е. В., Куликова Е. Ю., Силантьев И. В. Русский Китай как историческая летопись и как лирический сюжет («Поэма без предмета» и «Два полустанка» В. Перелешина) // Сибирский филологический журнал. 2017. № 2. С. 87–110.
Никитин А. Л. Неизвестный Николай Гумилёв. Исследование и публикация текстов. М.: Интерграф Сервис, 1996.
Оцуп Н. А. Николай Гумилёв. Жизнь и творчество / Пер. с фр. Л. Аллена при участии С. Носова. СПб.: Изд-во «Logos», 1995. 200 с.
Пильский П. Янтари. Новая книга: Павел Булыгин. Стихотворения. Изд-во Дидковского. Рига. 1937 // Сегодня. 1937. 15 июня. № 162. С. 8.
Полиевская А. С. Экзотический топос в творчестве Н. С. Гумилёва: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2006. 16 с.
Раскина Е. Ю. Геософские аспекты творчества Н. С. Гумилёва: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Архангельск, 2009. 45 с.
Рубинс М. Пластическая радость красоты: экфрасис в творчестве акмеистов и европейская традиция. СПб.: Академический проект, 2003. 354 с.
Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М.: Языки славянской культуры, 2010. 88 с.
Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев. Опыт имманентных рассмотрений. М.: Языки славянской культуры, 2008. 416 с.
Примечания:
1. В 1922 г., после гибели поэта, в Ревеле появился более полный вариант «Шатра» со стихотворениями «Суэцкий канал», «Мадагаскар», «Замбези» и «Нигер». Об истории издания сборника см. в книге А. Л. Никитина «Неизвестный Николай Гумилёв» [1996, c. 9–49] и в комментариях к сборнику стихов и поэм Гумилёва [Гумилёв, 1988, c. 583].
2. Рассказ Гумилёва «Африканская охота» с «документальным» подзаголовком «Из путевого дневника» соприкасается с «Африканским дневником», более того, сцена охоты на акулу дублирована из «Дневника». Но «Африканская охота» построена иначе, с явной авторской установкой на художественность повествования, композиционная выстроенность очерка сознательно анахронична.
3. Документальность и историчность дневника подтверждает его «вторая часть», частично опубликованная в журнале «Наше наследие» В. В. Бронгулеевым и позже целиком выставленная в электронном журнале «Academic Electronic Journal in Slavic Studies» Е. Степановым, который получил фотокопии от А. Б. Давидсона. Гумилёв планировал напечатать «Африканский дневник» по приезде в Петербург из Африки, а его «продолжение», безусловно, предназначалось для других целей: «Первоначально Гумилёв действительно хотел писать свои путевые заметки сразу в литературной форме, годной для публикации… Однако дальше все стало меняться. Гумилёв перешел на обычный способ фиксации только самых главных происшествий, основных пунктов маршрутов и продолжительности дневных переходов… Записи приняли… характер типично полевого дневника» [Бронгулеев, 1988, c. 84].
4. См. введение Т. С. Максимовой к книге стихотворений Булыгина «Пыль чужих дорог» [Булыгин, 2009, с. 4–22].
5. Сабля.
6. Курсив здесь и далее в цитате мой. – Е. К.
7. Благодарю Наталью Валерьевну Налегач за то, что обратила мое внимание на это эссе Анненского.
8. Здесь и далее в цитате курсив мой. – Е. К.
9. Привожу цитату в современной орфографии.
10. Курсив здесь и далее в цитатах текстов Гумилёва мой. – Е. К.