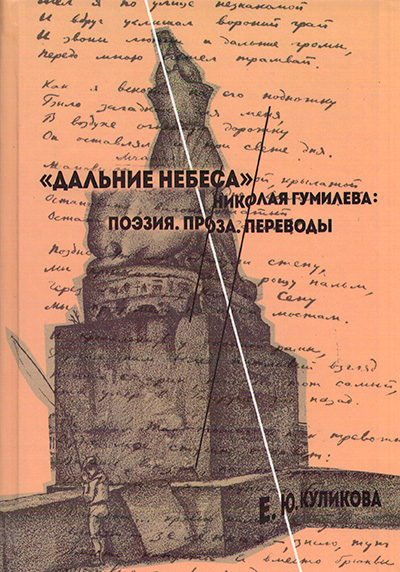О Гумилёве... / Авторефераты
Динамические аспекты пространства в лирике акмеистов: лейтмотивная поэтика
Специальность 10.01.01. – русская литература
(филологические науки)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора филологических наук
Новосибирск
2012
Работа выполнена в секторе литературоведения Учреждения Российской Академии наук «Институт филологии СО РАН»
Научный консультант: доктор филологических наук,
профессор ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»
Чумаков Юрий Николаевич
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» Абашев Владимир Васильевич;
доктор филологических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» Дзуцева Наталья Васильевна;
доктор филологических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» Подшивалова Елена Алексеевна.
Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»
Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат филологических наук, профессор Е. Ю. Булыгина
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Диссертационное исследование представляет собой анализ динамических аспектов пространства в лирике акмеистов. В данной работе рассматриваются разного рода лирические путешествия в поэзии акмеизма и те пространства, которые развертываются перед глазами читателя, пространства внешние и внутренние, а также особое пространство — пространство самого стихотворного текста. Движущаяся точка зрения и есть динамический аспект художественного пространства. Смена точек зрения и меняющиеся «картины», «наложение» художественных пространств одно на другое — это характерные и неизбежные черты любого художественного произведения, его необходимое свойство. В лирических «путешествиях» и «прогулках» оно дополнительно мотивировано самим лирическим сюжетом, и это обстоятельство создает особенно благоприятные условия для анализа пространственных отношений внутри поэтического текста. Динамику мы понимаем не только как выражение непосредственного движения, но и как возможность и причинность этого движения, как силу, позволяющую ему существовать.
Пространство в лирике акмеистов обнаруживает себя посредством вещей, оно «приуготовано к принятию вещей… восприимчиво и дает им себя, уступая вещам форму и предлагая им взамен свой порядок, свои правила простирания вещей в пространстве», — писал В. Н. Топоров. «Вещественность» акмеистического стиха подчеркивалась как самими акмеистами, так и их критиками (В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов), позже с вопросом о вещи так или иначе соприкасались такие характеристики акмеистического стиля, как экфрастичность, алеаторичность, принадлежность к сфере петербургского текста (Ю. И. Левин, Д. М. Сегал, Р. Д. Тименчик, В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян). Вещь в творчестве акмеистов — не «весомый» и «зримый» образ, — напротив, это вещь с нечеткими контурами, вибрирующая в пространстве, замещающая его пустоты.
С акмеистическими представлениями о вещи в какой-то мере перекликается почти синхронно возникающее в литературоведении понятие о художественной динамике. И. Ю. Светликова показала, что поэтическая динамика Ю. Н. Тынянова органично вытекает из философски и психологически обоснованных в исследовательской практике Ю. Н. Тынянова понятий о «колеблющихся признаках значения». «Колеблющиеся» семантические признаки обеспечивают мерцающие контуры акмеистических слов, которым Ю. Н. Тынянов дает образные определения с оттенком пространственности: «угловатые слова» А. Ахматовой, «тени слов» О. Мандельштама. Колеблющимися являются не только лексические значения, пространственные метафоры передают динамизм лирической ткани в целом, для которой характерны процесс «свертывания» и «развертывания», сукцессивности и симультанности. Словесная динамика лежит в основе лирического сюжета, принципиально отличного, по мнению Ю.Н. Чумакова, от эпической сюжетики. Динамика в этом случае означает не столько само движение, сколько импульс и возможность движения, которыми пропитана поэтическая ткань.
И все же в литературоведении практически нет — при самом напряженном интересе к указанной проблематике — непосредственных исследований, связывающих аспекты динамики в лирике акмеистов и ее пространственного осмысления, притом, что подобная связь предопределена самой природой художественного материала акмеизма и общим вектором развития филологической науки XX-XXI вв. Это заставляет констатировать недостаточную степень изученности исследуемой нами темы.
Актуальность работы обусловлена тем, что, несмотря на разработанность общей теории художественного пространства, представленной в исследованиях М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Б. В. Раушенбаха и др., современное литературоведение не выработало подхода к анализу специфики пространства в отдельно взятых кластерах, связанных с направлением, течением или школой в пределах некоторого литературного периода. Мы считаем, что наряду с общей теорией пространства и пространственной моделью отдельного писателя или отдельного текста важным оказывается целостное описание и исследование выделенной группы. Такой группой в диссертационной работе является круг поэтов, сложившийся вокруг редакции журнала «Аполлон», а также стихи поэтов-акмеистов, написанные в последующие десятилетия.
Представляется актуальным и значительным выделение тех мотивов, где динамика художественного пространства выявляется наиболее полно. К таким мотивам мы относим, прежде всего, мотив путешествия и смежные с ним мотивы плавания и прогулки, широко представленные в творчестве ведущих поэтов указанного направления, и некоторые вариации этого мотива.
Путешествие принадлежит к самым частотным литературным лейтмотивам, в русской литературе Нового времени параллельно эволюционирующим в эпическом и в лирическом направлениях. Сохраняя эпические установки (реализующиеся в «вечном» эпическом сюжете познания/завоевания новых земель) или игнорируя их, путешествие, по мнению А. Шёнле, становится полем для реализации множества виртуальных сюжетов и эмоциональных рисунков. Другое необычайно важное для поэзии, качество травелога связано с описательностью, с «живописностью», без которого данный жанр не может состояться. Для нас оказался важен укорененный в культуре описательный потенциал этого жанра, хотя задачей было рассмотрение путешествий сугубо лирических.
Мотив путешествия является чрезвычайно значимым для всех акмеистов, наиболее ярко количественно он представлен у Гумилёва, чья богатая биография поэта-путешественника меркнет по сравнению с роскошью литературных воплощений, ведь это не только реальные, но и воображаемые путешествия. Именно в творчестве Гумилёва был задан тот импульс, благодаря которому мотив путешествия приобрел значение лейтмотива в творчестве поэтов постсимволистской эпохи.
Одна из интереснейших его вариаций — передвижение в водном пространстве, — плавание. Тема эта образует едва ли не отдельный жанр в изобразительном искусстве — маринистику. В сущности, можно говорить и о поэтической (также о прозаической) «морине», специфика которой определяется характеристиками воды как стихии.
Другая вариация основного мотива, прогулка еще в большей мере, чем путешествие, концентрирует в себе лирические смыслы. В отличие от дневников путешествий, прогулка как будто имитирует одну страницу дневника, одно конкретное впечатление или размышление, и еще больше выдвигает автора, получающего впечатления и их описывающего. Меняя масштаб, прогулка по сравнению с путешествием дает возможность яснее воспринять отдельные стороны философии путешествия: для прогулки важна не столько изменчивость внешних пространств, сколько быстрая смена изображаемых и воображаемых, эмоционально пережитых картин. Отдельные зарисовки, сцены прогулок экфрастически застывают и запечатлеваются в словесном образе, отсюда их «вещественность», «эпиграмматичность», тяготение акмеистических прогулок к культуре золотого века, стилизация под «золотой век», которая сродни модернистской, мирискуснической стилизации под век XVIII.
Объектом нашего исследования является поэзия акмеизма. Материалом послужила, прежде всего, лирика Н. Гумилёва, А. Ахматовой, О. Мандельштама, а также стихотворения М. Зенкевича. Нас интересовали не только произведения времен расцвета акмеизма, то есть 1910-х гг. ХХ в., но и более поздние тексты указанных авторов, поскольку в них явлены «акмеистические посылы», реализованные в новой форме. В современном литературоведении отсутствует единый взгляд как на самою сущность акмеизма, так и на его хронологические рамки, и на состав участников этого течения. Разнобой литературоведческих суждений является результатом разброса суждений самих поэтов, называвших себя акмеистами: Ахматова считала, что их было шестеро (Гумилёв, Городецкий, Мандельштам, Нарбут, Зенкевич и она сама), причем рано отрекшийся от акмеизма Городецкий ею и Мандельштамом квалифицировался как «лишний»; в то же время Нарбут в письме к Зенкевичу высказал мнение о том, что, кроме них двоих, нет больше истинных акмеистов.
Согласно историко-биографическому принципу, в число поэтов, связанных с акмеизмом, включаются члены первого «Цеха поэтов». Более того, Е. Эткинд считает «близкими» акмеизму Вл. Ходасевича, М. Волошина, Г. Шенгели, Н. Недоброво, Вас. Комаровского, Н. Оцупа, И. Одоевцеву. Согласно другому подходу, основанному на стремлении выявить сущность акмеизма, в центре этого направления оказываются три «главных» имени — Гумилёв, Ахматова и Мандельштам (В. М. Жирмунский, Р. Д. Тименчик, И. П. Смирнов, Л. Г. Кихней, З. Г. Минц и Ю. М. Лотман). О. А. Лекманов объединяет оба подхода и пишет об акмеизме как о «сумме трех концентрических окружностей», где внешний круг соответствует составу «Цеха поэтов», срединный составляет каноническая «шестерка» акмеистов (Гумилёв, Городецкий, Мандельштам, Ахматова, Нарбут, Зенкевич), а в третий включаются лишь Ахматова, Гумилёв и Мандельштам как создатели «семантической поэтики».
В данном диссертационном исследовании, исходя из его целей и задач, основное внимание мы сосредоточили на творчестве Гумилёва, Ахматовой и Мандельштама, но обратились также и к текстам Зенкевича, поскольку положение этого поэта-«адамиста», находящегося на границе между акмеизмом и футуризмом (авангардом), особенно ярко демонстрирует динамические аспекты лирического пространства.
Предметом исследования выступают лейтмотивы путешествия, плавания и прогулки, выявляющие динамические аспекты лирики акмеистов.
Целью нашего исследования было рассмотреть лирику акмеистов в ее динамических аспектах, что предполагает не только обращение к темам, несущим в себе динамизм (в нашем случае это темы движения и перемещения в пространстве), но и к словесной, стиховой динамике.
Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач:
- Выявить и описать акмеистические тексты, которые бы демонстрировали различные грани динамической модели пространства.
- Очертить, пользуясь методом лейтмотивного анализа, ореол поэтической семантики мотивов путешествия, плавания, прогулки в творчестве акмеистов.
- Показать взаимосвязь тематики передвижения в пространстве с динамикой поэтической формы, обнаруживающей себя в пространственном ракурсе композиции текстов и в их лирическом сюжете.
- Рассмотрев репрезентативный ряд акмеистических текстов, объединенных лейтмотивом путешествия, продемонстрировать приверженность акмеистов к сюжетам ирреальной модальности и пространственным палимпсестам.
- На примере конкретных анализов отдельных акмеистических текстов, объединенных лейтмотивом плавания, выявить, как мифопоэтика водного пространства «работает» на усиление импульсов «возвратности» акмеистического текста.
- На примере конкретных анализов отдельных акмеистических текстов, объединенных лейтмотивом прогулки, показать, что в миниатюрах-прогулках максимально полно раскрываются возможности акмеистической модели пространства: его скульптурность, экфрастичность, тесная связь с художественным пространством классической поэзии XIX в.
- Выявить интертекстуальный пласт, имеющий в лирике акмеистов свои отличительные черты, которые объясняются законами акмеистической поэтики в целом и связаны с проблемой вещи и пространственной динамикой.
Методологическая основа диссертации определяется единством историко-литературного, феноменологического, компаративного и структурного подходов. Для описания сюжетной динамики мы использовали метод лейтмотивного анализа Б. М. Гаспарова. Лейтмотивный анализ предполагает рассмотрение мотива как динамической, а не константной величины. В свою очередь, лейтмотивный анализ Б. М. Гаспарова возникает тогда же, когда происходит активная разработка понятия «художественный мир» (С. Г. Бочаров, А. К. Жолковский, В. В. Федоров). Взгляд на текст как на «художественный мир» превращает произведение в континуальное пространство, и все остальные свойства этого мира обретают пространственный аспект. Мотив в «художественном мире» уже не может оставаться сюжетной дробью, он становится подвижным рисунком в художественном континууме, определяет его рельеф, отзывается во всех областях художественного пространства, и сам откликается на все. Для «поэтики выразительности» А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова характерно выявление не какого-то одного конкретного мотива, а работа с целым набором инвариантов мотивов. Подобное понимание мотива отменяет жесткую схему анализа художественного произведения, требует гибкости в подходе к любым художественным структурам. Мотив, замененный лейтмотивом, уподобляет анализ художественного произведения семиотическому путешествию по произведению как по миру со своим ландшафтом.
Лейтмотивный анализ учитывает тот факт, что лирика и проза сложной нарративной структуры чрезвычайно подвижны семантически, их звенья не вычленимы, они теряют четкость, расплываются, поэтому говорить можно лишь о текучих смыслах, «семантических пятнах», о семантике, вплотную приблизившейся к асемантике. Во всех сделанных нами анализах тема путешествия органически связана со множеством других семантических линий, она пунктирно, прерывисто проведена от начала текста к его концу через множество преград.
Поскольку в данной работе речь идет о динамике, которую невозможно помыслить отдельно от пространства и субстанций, его наполняющих и составляющих, то актуальными для данного исследования стали также труды о пространстве и вещи в творчестве акмеистов. Без решения проблемы вещи и пространства не обходится практически ни одно монографическое исследование акмеистической поэзии (работы Л. Я. Гинзбург, Р. Дутли, В. М. Жирмунского, Г. Киршбаума, Ю. И. Левина, О. Ронена, М. Рубинс, Э. Русинко, Д. М. Сегала, К. Ф. Тарановского, Р. Д. Тименчика, В. Н. Топорова, A. A. Хансен-Лёве, Т. В. Цивьян, Д. И. Черашней, Ю. К. Щеглова, Б. М. Эйхенбаума). Поскольку выбранные нами для анализа тексты заключают в себе лейтмотивы путешествия, плавания, прогулки, то мы также опирались на труды исследователей травелогов — А. Н. Балдина, Д. Буркхарта, В. С. Кисселя, Т. Роболи, А. Шёнле и др.
В целом комплексный характер поставленных в диссертационном исследовании задач обусловливает и соответствующий подход к материалу, основанный на рассмотрении каждого из исследованных явлений в свете динамической поэтики, теоретически обоснованной в работах Б. М. Гаспарова, М. Л. Гаспарова, Ю. Н. Тынянова, Ю. Н. Чумакова.
Основная научная гипотеза, вынесенная на защиту. Исходя из динамической природы пространства в лирике акмеизма, можно представить общий план акмеистической поэтики, и это позволяет увидеть два условия, необходимые для работы над темой о пространственной динамике: 1) осмысление пространства как текста; 2) осмысление текста как пространства. Пространственные образы в тексте связаны с пространственным устройством самого текста. Материал акмеистической лирики дает возможность показать, сколь разнообразен и неоднороден ее поэтический рельеф. По причине внимания к вещи пространственные образы в стихах акмеистов множественны, объемны, экфрастичны, что добавляет поэтической ткани, для которой вообще свойственна контрастность, еще большую рельефную остроту.
Основные положения, выносимые на защиту:
- Модель акмеистического пространства, явленная не только в пространственных образах, но и в пространстве самого стиха, обнаруживает себя посредством лейтмотивов, связанных с темой пути (путешествие, плавание, прогулка).
- «Лакунность», «пустотность» акмеистического текста служит генератором его внутренней энергии и толчком для построения пространственных структур в художественном мире акмеистов. Тыняновское понятие «художественной динамики», которое позволяет уловить «колеблющиеся признаки» поэтической ткани, ее движение и процессы генерации ее внутренней энергии, является способом описания пространства и его векторов в лирике акмеистов.
- Поэтические путешествия, будучи освобожденными от нарративных нагрузок, делаются собственно «проводниками» идеи путешествия, всей своей структурой воплощая динамичность, подвижность текста и мира.
- Лирические путешествия акмеистов описываются в значительной мере как воображаемые, соединяющие в себе различные пространства. Для них характерен высокий уровень интертекстуальной плотности (массивный подтекст), повышающий модальный потенциал текста.
- Лейтмотив плавания невозможен без семантического компонента возвращения/невозвращения на родину, эта семантическая линия выявляет сильнейшие возвратные импульсы акмеистического стиха, тем более что реверсивность является признаком любой стиховой ткани. У акмеистов реверсивность подчеркнута особо и является объектом художественного осознания.
- Акмеисты обновляют традиционную для поэзии тему прогулки, расширяя и углубляя «пригородный» текст русской литературы. И хотя прогулка не создает образ далекого пространства, но представляет движение вне географии, чистую идею динамики.
- Лейтмотивы передвижения у акмеистов предполагают образы отдаленных (путешествие, плавание) и периферийных (прогулка) пространств, однако при этом часто обозначается точка, откуда исходит движение, и точка эта — Петербург, в результате в акмеистическом тексте путешествий отдаленные пространства накладываются на петербургские картины, и создается впечатление, что лирический герой, перемещаясь, остается на месте, что сталкивает представления о статике и динамике.
- Литературные палимпсесты в лирике акмеистов во многом создаются за счет плотности интертекстуального ряда. Одним из наиболее важных подтекстов для творчества акмеистов стал французский поэтический подтекст (Ф. Вийон, В. Гюго, Ш. Бодлер, А. Рембо и др.), поскольку французская поэзия оказывала сильнейшее влияние на лирику Н. Гумилёва и О. Мандельштама.
Научная новизна исследования определяется следующими его аспектами:
- Впервые предпринято системное исследование стихотворных путешествий в поэтической культуре акмеизма. Гораздо чаще в сфере внимания литературоведов оказываются прозаические путешествия.
- Обозначены общеакмеистические тенденции, связанные с темой путешествий.
- Были проанализированы лейтмотивы в лирике акмеистов, выявляющие динамику пространства: путешествие, плавание, прогулка.
- Путешествие рассматривалось не как отдельный жанр или сюжетно-мотивный комплекс, а как синтез тематики путешествия и пространственной поэтики, для которой характерен внутренний динамизм.
- Методика работы и теоретический подход к ней потребовали внесения в нее некоторой теоретической аналитики, которую мы представляем, рассматривая такие понятия, как «художественная динамика», «образы пространства в художественном мышлении», «текст как пространство» и нек. др.
Теоретическая значимость исследования предопределена тем, что в нем
- систематизирован и обобщен художественный опыт одного из важнейших поэтических течений ХХ в. — акмеизма;
- выявлена функция динамических принципов поэтики акмеистов (словесная и пространственная динамика), что вносит определенный вклад в изучение акмеизма как художественно-эстетического направления;
- рассмотрены следующие динамические аспекты поэзии акмеистов: проблема лирического пространства; специфичность акмеистического стиха (предметность); лейтмотивность поэтики акмеистов;
- обоснована гипотеза акмеистической поэтики, в рамках которой пространство осмысляется как текст, а текст как пространство.
Научно-практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания в ВУЗах при чтении курсов лекций по истории литературы ХХ в., задействоваться при подготовке спецкурсов и спецсеминаров по поэзии серебряного века, при проведении практических занятий, литературных факультативов в старших классах средней школы с гуманитарным уклоном, а также при разработке учебных и методических пособий.
Апробация результатов исследования.
Основные положения диссертации отражены в 29 научных статьях и в монографии «Пространство и его динамический аспект в лирике акмеистов» (Новосибирск, 2011).
Идеи и положения диссертационной работы излагались и обсуждались в докладах на ежегодных всероссийских научных конференциях «Сюжеты и мотивы русской литературы» (Новосибирск, Институт филологии СО РАН, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 гг.), на международном конгрессе «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, 2004 г.), на XI Международной конференции «Русский язык, литература и культура в общеевропейском пространстве ХХ века» (Познань, Польша, университет им. А. Мицкевича, 2005 г.), на семинаре «Психопатология и литература» (Париж, Франция, Сорбонна (Paris VI), 2006 г.), на III международной конференции «Русская литература в меняющемся мире» (Ереван, Армения, 2007 г.), на всероссийской научной конференции «Нарративные традиции славянских литератур: повествовательные формы Средневековья и Нового времени» (Новосибирск, Институт филологии СО РАН, 2008 г.), на XII Международной конференции „Европейская русистика и современность”, посвященной теме „Русский язык, литература и культура на рубеже веков: креативность и инновации при формировании интеркультурной компетенции в исследованиях, переводе и дидактике” (Познань, Польша, университет им. А. Мицкевича, 2009 г.), на III Международном симпозиуме «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, 2009 г.), на конференции-семинаре «Литературные герои и литературные модели поведения в литературе и в жизни» (С.-Петербург — Пушкинские Горы, 2010 г.), на международной конференции «Филология — XXI» (Караганда, Республика Казахстан, Центр гуманитарных исследований, 2010 г.), на II Международной конференции «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы» (К 55-летию преподавания русского языка в Испании) (Гранада, Испания, 2010 г.), на международной научной конференции «Маринистика в художественной литературе» (Бердянск, Украина, Институт филологии Бердянского государственного педагогического университета, 2010 г.), на IV Международном научном симпозиуме «Современные проблемы литературоведения» (Тбилиси, Грузия, Институт грузинской литературы им. Шота Руставели, 2010 г.), на X Международной научно-практической конференции «Русская литература в контексте мировой культуры» (Ишим, 2010 г.), на международной конференции «Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). Жизнь и творчество. К 140-летию со дня рождения писателя» (Москва, Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына, 2010 г.), на конференции, организованной Американской ассоциацией преподавателей славистики и восточно-европейских языков: AATSEEL — American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (Лос-Анджелес (Пасадина), Калифорния, США, 2011 г.), на Х Юбилейном Международном научном симпозиуме «Русский вектор в мировой литературе: Крымский контекст» (Саки, Украина, Крымский центр гуманитарных исследований, 2011 г.).
Объем и структура диссертации. Структура диссертациисоответствует ее цели и задачам. Диссертационное исследование состоит из Введения, трех глав, Заключения и Списка использованной литературы. Все три главы, содержательно и методологически дополняющие друг друга, имеют свою внутреннюю логику.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении обосновывается, как образ пространства в лирике акмеистов соотнесен с динамическими процессами, характерными для словесной фактуры этих стихов; подчеркивается, что самым удобным способом описания динамической модели пространства для нашего исследования является лейтмотивный анализ; отмечается, что лейтмотивы путешествия, плавания и прогулки позволяют наглядно проследить различные проявления художественной динамики в творчестве акмеистов.
ГЛАВА I. Воображаемые путешествия Н. Гумилёва и пространственные палимпсесты О. Мандельштама.
Описание лейтмотива путешествия начинается с текстов Гумилёва, поскольку именно его творчество способствовало превращению мотива путешествия в один из ведущих лейтмотивов в поэзии акмеизма. Для обнаружения законов поэтики Гумилёва «географический код» является одним из самых плодотворных. В параграфе «Африканские мотивы в лирике Н. Гумилёва» мы касаемся ранних его «африканских» стихов и подробнее останавливаемся на цикле «Шатер». Экзотические мотивы пришли в поэзию Гумилёва через Брюсова и Бальмонта, Л. де Лиля, Бодлера, Кольриджа, Стивенсона и Киплинга, в чьих стихах запечатлена тяга к экзотическим странам. Мечты, вылившиеся в «африканских» стихах Гумилёва, оказались настолько убедительными, что долгое время считались именно впечатлениями, а не чистым вымыслом. Между тем, позже они воплотились в жизни Гумилёва практически полностью, а его дальнейшее творчество продолжило эту отчасти символистскую традицию, обращенную к романтизму с его пристрастием к азиатскому, кавказскому и восточному колориту.
Поэт видит мир Африки сказочным и экзотическим, опираясь на личные впечатления, которые одновременно вымышлены и прожиты, вычитаны из книг и пройдены сотнями дорог. «Шатер» представляет своего рода географическую карту, по которой можно воссоздать целостный образ Африки — начиная от Красного моря, по которому океанский пароход идет, «как учитель среди шалунов», через пустыню Сахару, Сомалийский полуостров, даже Мадагаскар и заканчивая Нигером. Одну из самых «сухих» стран мира Гумилёв видит полноводной, бушующей волнами на «водяном карнавале», покрытой травой в человеческий рост.
Последнее стихотворение цикла «Нигер» рождается из рассматривания географической карты Африки:
Я на карте моей под ненужною сеткой
Сочиненных для скуки долгот и широт
Замечаю, как что-то чернеющей веткой,
Виноградной оброненной веткой ползет.
Такая литературность, отсылающая к «Le voyage» Бодлера, к французской традиции, связанной с именами Л. де Лиля, А. Рембо, Матисса, Гогена, создает непрочное равновесие между реальностью и вымыслом, делает облик героя-путешественника двойственным, условным, а личность самого Гумилёва обретает масочную структуру. География Гумилёва-путешественника подчинена литературным принципам: пространство «собирается» из цитат, которые выдаются за «впечатления», но в то же время остаются цитатами, отчего стихи обретают «картинность», становятся «артистическими стихами», не позволяющими забыть об условности того яркого пространства, которое творит поэт. Литературность географии содержит в себе динамический потенциал: она расширяет границы лирического «я», наделяя его множеством условных ролей, которые ставятся вровень с биографической судьбой.
В параграфе «“Сентиментальное путешествие” Н. Гумилёва» рассматривается морское путешествие, которое в финале оказывается воображаемым, что открывает в лирике Гумилёва пересечение пространств реального и вымышленного, которое обретает свою материальность только на листе бумаги. Сюжет «Сентиментального путешествия» характерен для Гумилёва — это путешествие с возлюбленной, и ее присутствие, воображаемый диалог с ней, ее мнимые реплики или реакции, монолог лирического героя, фразы третьих лиц — важнейший момент в композиции стихотворения, добавляющий тексту ту театральность, которая присуща лучшим стихотворениям Гумилёва, таким, как «Жираф». В «Сентиментальном путешествии» мотив странствий контрастирует с мотивом покорения стихии, к примеру, в «Капитанах», это не завоевание новых земель, а именно путешествие: здесь герой и его возлюбленная стоят на пороге нового пути, но путь этот пролегает не столько во внешнем мире, сколько в сфере чувств и внутренней жизни.
Текст Гумилёва анализируется на фоне «Осени» А. С. Пушкина и бодлеровских стихотворений «Le voyage» («Путешествие») и «L'invitation au voyage» («Приглашение к путешествию»). Для лирики Гумилёва важен французский подтекст. Поэт создает свое «сентиментальное» путешествие по пушкинско-бодлеровской модели, но по сравнению с Бодлером и Пушкиным его путешествие выглядит более экзотичным и географически убедительным: в нем упомянуто множество конкретных названий и необычных описаний. Однако Гумилёв порой разрушает свои, яркие и убедительные, картины, демонстрируя их «сновидческую», «воображаемую» природу. «Живописные» описания превращаются в словесные, а реально существующие города и страны, попав в декоративный ряд ласкающих слух топонимов, превращаются в словесный изыск, но не меркнут от этого, а демонстрируют силу и гибкость слова, словесной динамики.
Французский подтекст был важен для нас и при описании одного фрагмента творчества Мандельштама — его «ментального» путешествия во Францию, к Франсуа Вийону. Для Мандельштама тема Вийона начинается в статье «Франсуа Виллон» (1910). «Вийоновский» текст может характеризовать поэтику всего Мандельштама, это французское путешествие поэта, ветвящееся множеством смыслов, как и полагается лейтмотиву. В параграфе «О. Мандельштам и Ф. Вийон: странничество, школярство, кенозис» речь идето поэтическом мифе о Виллоне, сотворенном Мандельштамом (в стихотворении «Чтоб приятель и ветра, и капель…» и др., где Вийон присутствует косвенно). Через мотивы кубка и чаши, связанные одновременно с мотивами пира (студенческой/пьяной пирушки) и молением о Чаше Христа, открывается сложное восприятие русским поэтом лирики и судьбы французского «школяра». Для Мандельштама Вийон оказывается среди тех разбойников, которые были сораспяты вместе с Христом. Приближение фигуры Вийона к Богу, во-первых, позволяет в очередной раз убедиться в том, что французский поэт был «любимцем кровным» Мандельштама, а, во-вторых, увеличивает степень мифологизированности образа «школяра».
Мотив кубка у Мандельштама имеет две трактовки: кубок как творчество писателя и кубок как мировое наследие, и в том, и в другом случае кубок становится метафорой мира, только в первом — творческого, во втором — мира, запечатленного во всем богатстве его культурной памяти. Во втором случае мотив кубка преображается в мотив пира поэтов. В эссе «Франсуа Виллон» «романтизированную биографию» Вийона, по определению М. Л. Гаспарова, «пересказывает» Мандельштам, уподобляя ее «открыто… Верлену, а скрыто — самому себе». Именно потому очерк обладает чертами как документальными (в отношении французского поэта), автобиографическими (в метафорическом смысле), а, следовательно, художественными. Мандельштам описывает историю любимого поэта одновременно аналитическим и поэтическим языком. Анализируя судьбу Вийона, он тем самым анализирует свою судьбу; характеризуя динамику бытия и творчества поэта-школяра, Мандельштам размышляет о себе, о своем времени.
В параграфе «Пиры Мандельштама: путешествие в прошлое европейской культуры» рассматривается использование Мандельштамом пушкинского мотива «пира во время чумы» (стихотворения «От легкой жизни мы сошли с ума…», «Я скажу тебе с последней…», «В игольчатых чумных бокалах…», «На высоком перевале…»), который связывается с переживанием поэтом судьбы Вийона. Карусель «Фаэтонщика», шерри-бренди, «напрасное веселье» — эти черты умирания и беззаботности звучат у Мандельштама под знаком Вийона. Его судьба и поэзия преображают мотив «пира во время чумы». С одной стороны, личное переживание Мандельштамом смерти метафорически соотносится с образом пушкинского Председателя, а, с другой, уходит вглубь веков к Франции XV в., к «любимцу кровному», и становится буквальным: как Вийон знал реальное и переносное значение «дыхания» чумы, так и Мандельштам чувствует себя на границе бытия и со страхом и поэтическим наслаждением вступает в мир «легкой смерти».
«Пир» у Мандельштама не только совмещает мотивы смерти и веселья, но и отсылает к победному пиру в Валгалле, устраиваемому в честь воинов и героев. Скандинавский пир для поэта — «пир отцов». Эта ассоциация находит свою аналогию через перекличку с мифологическими сюжетами пира, встречающимися в лирике Мандельштама («Валкирии», «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Когда на площадях и в тишине келейной…», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др.). «Звучный пир» («Концерт на вокзале») ожидается в Элизиуме: так происходит своеобразная контаминация севера и юга, холода и тепла, твердости и нежности. Мотивы вийоновских «стихотворных» и «реальных» пиров странным образом сплетаются в метафорических пирах Мандельштама, напоминающих одновременно эллинскую и скандинавскую культуры. «Вакхические» песни Вийона становятся словно фоном, на котором создается рисунок пира мертвых воинов в Валгалле и поэтов и героев в Элизиуме.
Мотив пира в лирике Мандельштама оказывается тесным образом переплетенным с мотивом смерти (пир во время чумы, пиры в Валгалле), но это не только отголосок традиционного симпосиона, а также влияние Вийона, чей образ можно увидеть как «подтекст» судьбы и творчества Мандельштама. Мотив пира многое рассказывает об образе мира в поздней лирике Мандельштама, представляющей мир гибельный, уже охваченный чумой, вплотную приближенный к смерти, но от этого особенно ценный, пронизанный нитями памяти о прошлых культурах, поэтах и текстах.
В параграфе «О пространственных коннотациях вийоновского текста О. Мандельштама» рассматривается стихотворение «Я молю, как жалости и милости…» (1937), вокруг которого развернут «вийоновский текст» Мандельштама. Путешествие во Францию из мрачного Воронежа, куда был сослан поэт, осуществляется с проводником наподобие Вергилия. Вийон «переносит» Мандельштама из ссылки на землю Франции. Мотивный комплекс, связанный с именем и судьбой французского поэта (песенка, жаворонки, вода, песчаник, вор, тюрьма, готика, фиалка, ножницы, парикмахер), увиден нами также и в других текстах: «Чтоб приятель и ветра, и капель…», «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..», «Я видел озеро, стоявшее отвесно…» и т.д. Структура стихотворения «Я молю, как жалости и милости…» в какой-то мере несет в себе черты кинематографичности: вибрация пространства и времени создает эффект движения, когда под одним пластом обнаруживается ряд других, образы и мотивы двоятся и троятся, обретают новые формы и смыслы, создавая ассоциативный орнамент вокруг лирического героя и его двойников. В год написания рассматриваемых стихотворений жизнь Мандельштама поставлена под угрозу, между тем «кружево», словесный орнамент его стихов становятся все более и более сложными. Глубинные семантические провалы, антитетические напряжения смыслов делают этот узор неустойчивым, но невероятно динамичным и красочным. Создается впечатление жизни, висящей на волоске; последнего взгляда, брошенного на живой и прекрасный мир, перед казнью; путешествия, в котором путник достиг вожделенных красот, но дальше дорога обрывается… Ткань стихов и судьбы Мандельштама переплетается с тканью стихов и судьбы Вийона, ее кружево, ее «паучьи права» становятся такой же частью бытия Мандельштама, как были частью бытия французского поэта.
В параграфе«“Готическая” вертикаль в поэтическом мире О. Мандельштама» предметом рассмотрения становится значимость «социальной архитектуры», отраженной в особенной любви Мандельштама к готике и Египту, а также в «звериных» мотивах в стихотворениях, посвященных кровавой революционной эпохе. Мы выделяем пучок мотивов, рожденных в лирике Мандельштама готическими ассоциациями, что демонстрирует картину современного ему мира, куда вписана судьба автора — поэта, гибнущего в гибнущей России, а также трагическая судьба Вийона и готической, средневековой «холодной» Европы: паук, веретено, паутина, узор, плетение. В «готических текстах» Мандельштама также подчеркнуто противопоставление человека и гнетущей власти. С появлением в его творчестве мотива «века-волкодава» «зверек» получает отражение в еще более метонимически обостренной метаморфозе: «Бал-маскарад. Век-волкодав. / Так затверди ж назубок: / Шапку в рукав, шапкой в рукав… / И да хранит тебя Бог!»; «Мне на плечи кидается век-волкодав, / Но не волк я по крови своей: / Запихай меня лучше, как шапку, в рукав / Жаркой шубы сибирских степей». «Шапка» — убитый зверь, тоже своего рода метафора человека, погубленного веком, «социальной архитектурой». В этом аспекте интересна мандельштамовская «трилогия о веке» (Е.Г. Эткинд) («За гремучую доблесть грядущих веков…», «Век» и «1 января 1924») — один из путей реализации «социальной архитектуры» в поэзии Мандельштама. При рассмотрении текстов о веке выстраивается тематическая пара «белка-волк» / «человек-век», что отсылает нас к мандельштамовскому Вийону, объясняя тем происхождение поэтического мифа о французском поэте. В эссе Мандельштам сравнивает Вийона с «белкой в колесе, не знающей ни минуты покоя». Белка находится в антитетичной позиции к волку, подобно человеку (поэту), всегда противопоставленному государству (веку).
Выводы к ГЛАВЕ I. Акмеистический текст на тему путешествий заключает в себе сумму «мыслительных», воображаемых передвижений, а лейтмотив путешествия становится точкой, позволяющей развернуть в разных плоскостях множество пространств. Поэтические путешествия напоминают «сад расходящихся тропок» или «извилистый клубок», где тропки — это постоянные семантические вариации, связывающие путешествие с другими важнейшими темами: мира, бытия, «бытия-в-мире». При анализе текстов мы отмечали мельчайшие семантические нюансы в пределах одного стиха и всего творчества Гумилёва и Мандельштама. Через семантические нюансы и выявляется динамический характер акмеистических стихов и их пространственных образов.
ГЛАВА II. Лейтмотив плавания и археосемантика воды (Н. Гумилёв, М. Зенкевич).
В ГЛАВЕ II продемонстрирована специфика лейтмотива плавания на примерах текстов Гумилёва и Зенкевича, которые мы рассматриваем сквозь призму традиционных литературных сюжетов о морских путешествиях — сюжета о Летучем Голландце и новейшего морского сюжета о гибели Титаника. Лейтмотив плавания был одним из важнейших для Мандельштама, в чьем творчестве водная стихия соединяет разделенные во времени и пространстве культуры, являет прообраз античных плаваний, а корабль (лодка, челнок) цепью ассоциаций прикреплен ко многим ключевым мандельштамовским образам. Чаще всего водная стихия и морские странствия у Мандельштама исследуются в рамках крымско-эллинского мотивного комплекса, о котором написано достаточно много (Д. М. Сегал, Е. Фарино, Ю. И. Левин, В. И. Террас, С. А. Ошеров, Л. Силард и т.д.). Не последнюю роль играют морские мотивы и в творчестве Ахматовой. Нам было важно продемонстрировать специфику лейтмотива плавания на примерах текстов Гумилёва и Зенкевича. Для гумилёвского цикла «Капитаны», написанного в 1909 г., и для одного из последних стихотворений поэта («Заблудившийся трамвай» (1921)) важнейшим подтекстом оказывается подтекст, связанный с европейской легендой о Летучем Голландце. И если в исследовании лейтмотива путешествия у Гумилёва мы обращаемся к древним легендам (усвоенным Гумилёвым, естественно, при посредничестве русской поэзии XIX в. и европейской литературы XIX-XX вв.), то последний параграф главы посвящен анализу стихотворения Зенкевича «На “Титанике”». Темы Летучего Голландца и погибшего Титаника позволяют исследовать еще один фрагмент акмеистического текста путешествий, на этот раз водных.
В параграфе «Образы кораблей-призраков в лирике Н. Гумилёва» на фоне поэтической традиции рассматривается «морская фантастика» Гумилёва от «Романтических цветов» до сборника «Колчан», отмечается сходство гумилёвских сюжетов с «19 октября» (1825) А. Пушкина, вольным переводом М. Лермонтовым баллады Й. К. Цейдлица «Корабль призраков» («Geisterschiff»), стихотворением А. Блока «Ты — как отзвук забытого гимна…», «Мертвыми кораблями» К. Бальмонта, «Oceano nox» В. Гюго, «Путешествием» («Le voyage») и «Приглашением к путешествию» («L’invitation au voyage») Ш. Бодлера, «Пьяным кораблем» («Le bateau ivre») А. Рембо, «Балладой о ночлежке Фишера» («The Ballad of Fisher’s Boarding House») и «За цыганской звездой» (“The Gipsy Trail”) Р. Киплинга, «Низвержением в Мальстрем» («A Descent into the Maelstrom») и «Рукописью, найденной в бутылке» («MS. Found in a bottle») Э. По, «Рассказом о корабле привидений» («Die Geschichte von dem Gespensterschiff») В. Гауфа. Интертекстуальные связи между творчеством Гумилёва и его предшественниками позволяют проанализировать образы «Летучего Голландца» и кораблей-призраков, проследить особенности мотива странствий в лирике поэта. Жизненный путь Гумилёв представляет как дальнее странствие, интересное, но трудное путешествие по диким местам, преодоление невероятных препятствий, но это не просто дорога: взгляд поэта всегда предпочитает почти мистическое движение по морю, сквозь мальстремы, штормы и рифы. Опасности плавания вплотную подводят к призрачному, таинственному пространству смерти. Акмеистический текст моделирует «призрачное» пространство: лейтмотив плавания соединяет между собой литературные отголоски многих древних легенд, перемешивающихся между собой, вмещающихся друг в друга. Все это создает ощутимый эффект того, что одно пространство может заключать в себе множество других или пересекаться с другими пространствами.
В параграфе«“Летучий Голландец” и “Заблудившийся трамвай” Н. Гумилёва» центральный мотив трамвая увиден сквозь призму вариаций литературных кораблей-призраков и, главным образом, «Летучего Голландца». Онтологическое плавание героя стихотворения — путь в царство Аида на своего рода лодке Харона, как и в предыдущем параграфе, открывается на фоне зарубежной и русской традиции — новелл Э. По и В. Гауфа о кораблях-призраках, «Берлинского» В. Ходасевича, «Старого отшельника» («Le vieux solitaire») Л. Дьеркса и др. Данный ракурс анализа позволяет увидеть последнее «стихотворение-завещание» Гумилёва в рамках постоянных в его творчестве мотивов странничества и путешествий. «Заблудившийся трамвай» — одно из самых загадочных стихотворений поэта — неоднократно исследовался в литературоведении (см. статьи Э. Русинко, И. Мейсинг-Делик, Р. Д. Тименчика, Л. Аллена, Ю. Л. Кроля, Ю. В. Зобнина, Е. Сливкина и др.). Трамвай у Гумилёва соединяет в себе черты механизмов начала ХХ в., описывавшихся в литературе — самого трамвая, поезда, самолета. Однако невозможно не увидеть в «Заблудившемся трамвае» «морских» ассоциаций, хотя сам текст, скорее, «сухопутный». Гумилёв помещает лирического героя внутрь трамвая-призрака, родственного «Летучему Голландцу», и заставляет видеть всю свою жизнь в картинах, как будто реально возникающих за окном. Только одни видения отображают действительно случившееся когда-то с героем, а другие приходят из будущего, из прочитанных книг, из прежних, невоплощенных мечтаний.
Стихотворение можно условно разделить на две части: восемь строф в первой и семь — во второй. Первые восемь строф состоят из трех частей: 3 + 3 + 2. Сначала три строфы вводят летучий трамвай и героя, заблудившихся во времени; следующие три отражают блуждание в пространстве: наконец, в двух финальных строфах первой части описывается видение собственной смерти. С девятой строфы начинается вторая часть «Заблудившегося трамвая» и вводится любовная тема — Машенька, ожидающая героя. Смерть Машеньки в стихотворении Гумилёва согласуется с перебоями пространства и времени, присущими судьбе «потерянного» экипажа «Летучего Голландца»: герои переживают, застыв во времени, века, и потому не случайно эпоха Екатерины II, дух XVIII в. вторгается во время Гумилёва: возлюбленная остается в своем времени, где и умирает, а сам герой переносится во времени вперед.
Главная сюжетная пружина стихотворения заключена в том, что перед нами текст, в котором все-таки есть возвращение из жуткого путешествия. Однако трамвай возвращается не в Петербург XVIII в., где героя ждет Машенька, а в Петербург XIX в., сменяемого веком XX. На фоне фантастического сюжета о «Летучем Голландце», потерявшемся во времени и пространстве, повторяется легенда об ожившем Медном всаднике. XVIII строфа — одна из самых удачных в стихотворении: свежий и живой ветер и глагол «летит» ничуть не мешают застывшей монументальности этой строфы. Здесь как раз в полной мере проявляет себя акмеистическая стихотворная скульптурность, которая оттеняет динамику. Все четверостишие как бы стоит на месте, замерев в одном, трагическом и страшном порыве, который, несмотря на состоявшееся возвращение, не обещает благополучного финала. Застывшая монументальность строфы как бы копирует черно-белую, графично-теневую иллюстрацию А. Бенуа к «Медному всаднику», где над крошечным Евгением занесены копыта огромного коня (вот откуда отчетливое ощущение XIX в.), а, кроме того, «два копыта… коня» очевидно перекликаются с цитатой из блоковской статьи «Интеллигенция и революция»: «над нами повисла косматая грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта». В самом начале фиксируется, что трамвай летит, тем самым его природа нарушается и вводит его в ряд мистических образов, таких, как «Летучий Голландец». Но в финале в смысловую рифму с трамваем попадает Медный всадник. Он тоже летит, точнее, летит «всадника длань в железной перчатке / И два копыта его коня». Если трамвай проносится перед героем, и тот успевает вскочить «на его подножку», то Медный всадник летит на героя. Возникает чисто кинематографический эффект резко набегающей камеры, демонстрирующий текстовую динамику.
Машенька, оставленная в прошлом, из милой возлюбленной с простым именем превращается в идеал, в Беатриче, ведет героя к свету, к прощению, к очищению. И потому герой будет служить «молебен о здравье» своей возлюбленной: он снова как будто возвращается в то время, когда она была с ним, когда она «стонала в своей светлице». Это то, чего он не сумел сделать в XVIII в., а сейчас, благодаря смещению времен, сможет. Это его прощение и очищение от грехов. «Панихида» о самом герое тоже необходима, его греховность сродни «вине» обитателей «Летучего Голландца»: моряки оказались заложниками своего безбожия, неверия, и заклятье их настигло потому, что они отвернулись от Бога. Не случайно первое, что делает герой, попав домой, — отправляется в Исакий молиться о своей погубленной душе и о спасшей его Машеньке.
Попытку остановить летучий трамвай, вырваться из бесконечного повторения своего бытия герой делает в каждой из частей стихотворения: в третьей строфе первой части и в первой строфе второй: «Остановите, вагоновожатый, / Остановите сейчас вагон». Но лишь путь через страдания ведет к спасению, и герой спасение обретает, а Машенька остается в мире, с которым ему никогда нельзя будет соприкоснуться. В финале «Заблудившегося трамвая» петербургское пространство оказывается необыкновенно спрессованным: напластования одного топоса на другой столь многочисленны и столь быстро сменяют друг друга, что текст неисчерпаемо расширяет свой смысловой объем. Мотив возвращения на родину обманывает и запутывает читателя, которому кажется, что герой спасен и благополучно достигает родных берегов, но ощущение это обманчиво. Движение не направлено к цели: оно колеблется между разными веками, расплывается во времени, а пространство оказывается пронизанным импульсами возвратности.
В параграфе«Морское “voyage de noce” в стихотворении М. Зенкевича «На “Титанике”» рассматривается текст Зенкевича, посвященный гибели знаменитого корабля, из так и не изданной при жизни автора книги стихов «Со смертью на брудершафт» — один из многих поэтических откликов на гибель знаменитого корабля, тема, неизбежно сопровождающаяся эсхатологическими ассоциациями. Гибель «Титаника» словно подсвечивает морские сюжеты в творчестве поэтов и писателей, многие авторы прямо или косвенно касаются ее в своих произведениях (А. Блок, В. Брюсов, В. Ходасевич и др.). Зенкевичу корабль видится живым существом, составленным из стали и брони: «Только что от стальных сосцов стапеля / Отпавший новорожденный гигант». Это акмеистический взгляд на мир, когда построенное, созданное руками человека, зодчего, становится живым. Для Зенкевича принципиально соединение «животного», «звериного» начала в образе «Титаника» и его «стального», механического происхождения («стальные балки ребер» лайнера, «кипящие внутренности» машин, выкачивающих воду, «осколки льда в броневой брюшине»). Перекличка с мандельштамовским подходом к описанию созданного руками человека, к соединению природы и культуры («имена цветущих городов», «чудовищные ребра» Notre Dame) и «Военно-морской любовью» В. Маяковского, написанной в 1915 г. — годом раньше текста Зенкевича, создает двойственный эффект: акмеистические — «плотские», «натуральные» черты сплетаются с элементами футуристической поэтики гротеска. Поверженное «миноносье ребро» у Маяковского отзовется «хрустящими» «стальными балками ребер» у Зенкевича, гибель миноносца, играющего со своей миноносицей подобно резвящемуся лайнеру Зенкевича, прозвучит как рифма к гибели «Титаника». «Горячечная гонка» лайнера, напоминающая пламенную страсть героев, закончится неожиданно и почти нелепо. И «кипение внутренностей» машин, выкачивающих «черную кровь океана», неспособно противостоять «трупному холоду» смерти. Зенкевич сталкивает абсолютный жар (любви, тела, рук, сердец героев и жажду скорости и покорения океана «Титаником») с гибельным холодом (айсберга). Однако, подобно тому, как чувства героев описываются двойственно, через соединение кипения страстей и холода ладоней возлюбленной, так и ледяная смерть становится огнем в полном своем апогее. Тщетная надежда на окончательную победу блестящего корабля (то есть интеллекта и творчества человека — его создателя) над стихией океана оказывается ложной, трагически опровергнутой, и антитетичные мотивы холода/жара как раз позволяют увидеть границу, которую невозможно преодолеть.
Катастрофа, случившаяся с «Титаником», превращает мир во внезапно разверзшуюся преисподнюю, и шлюпки с людьми «по концентрическим кругам» удаляются от нее. В написанном в 1924 г. В. Ходасевичем очерке «Бельфаст» знаменитая верфь, на которой построен «Титаник», представлена как ряд концентрических кругов, имитирующих строение Ада Данте. Путешествие на верфь оказывается почти дантовским: герой получает своего «Виргилия», за которым следует по кругам конторы, чертежных, по зигзагам «Виргилий» везет героя на машине на территорию верфи. В стихотворении Зенкевича нет проводника, но есть вырвавшиеся из преисподней шлюпки (на одной из которых находится новобрачная Элен), и есть «черный омут», куда погружается гигант, оставивший после себя лишь «молящий о помощи молнийный излом / В приемниках земных радиостанций». Молния становится знаком погружения в преисподнюю, а сигнал о помощи застрянет вне времени и преодолеет пространства.
Ориентация на «Божественную комедию» Данте создает игру антиномий в тексте Зенкевича: адский жар чередуется с трупным холодом, снежная епитрахиль — с пламенем преисподней, огонь — с волнами. Как у героя Данте огонь есть одновременно противоположность и слияние со льдом, так и Зенкевич сближает Рай и Ад, давая герою возможность, сгорев в пламени преисподней, спасти душу. Трагедия крушения лайнера приобретает для лирического «я» черты метафизические: искупление и соединение с Элен возможно только для преодолевшего «концентрические круги» Ада и Чистилища. Важный для Зенкевича дантовский подтекст позволяет увидеть героя посредине «странствия земного» на фоне трагедии крушения лайнера. Возможность искупить прежние «прегрешения» («И я был между теми, / Кто платил юности безумные дани») сюжетно сближает героев «На “Титанике”» и «Божественной комедии». Гибнущий лайнер становится метафорой Ада и Чистилища, ведущих героя в Рай к Беатриче (Элен). Если катастрофа «Титаника» виделась Блоку победой стихии над жалким человеческим разумом, а Брюсов, забыв о ней, переживал создание «Титаника» как торжествующую песнь цивилизации, то Зенкевич открывает крушение лайнера как переход в новое духовное пространство, способное очистить героя и привести к свету. В созданном на стыке акмеистической и футуристической поэтики стихотворении Зенкевича «Титаник» выглядит земным и плотским — радостным, рвущимся вперед, как зверь, полный сил, и одновременно подобным кубической картине, где изображение живого существа открывается через пересечение линий, столкновение зигзагов, молний, вспышек — сочетания конкретных предметов и абстрактных понятий, слитых воедино. Дантовский мир преображается до неузнаваемости, но остается тем же самым Адом, сквозь круги которого герой идет в Рай к своей Беатриче.
Выводы к ГЛАВЕ II. Водная стихия непредсказуема, лейтмотив путешествия по водам всегда связан с идеей опасности, с возможностью не возвратиться домой, со страхом пропасть в морских пучинах. Все рассмотренные нами акмеистические тексты на тему плавания обнаруживают в подтексте легенды об исчезновении («Летучий Голландец», «Титаник»), несут в себе гибельные смыслы, чреватые трагическим финалом, а самым наряженным моментом таких текстов становится момент возвращения/невозвращения. Однако и в самом акмеистическом тексте сильны возвратные смыслы, которые лейтмотив плавания только обостряет и подчеркивает: возвратность является и темпоральной, и пространственной характеристикой, так, в финале «Заблудившегося трамвая» дана «серия» призрачных возвращений в Петербург. Как известно, возвратность является универсальным свойством не только акмеистического, но любого стиха вообще, стихотворная ткань реверсивна в любой точке, каждая точка в стихе может стать поворотной, и в то же время остаться завершающей, как и путешествие, которое может закончиться возвращением или гибелью. Возвратность фиксирует целостность художественной структуры, а лейтмотив плавания с возвращением/невозвращением на родину лишь выявляет и подчеркивает сильнейшие возвратные импульсы акмеистического стиха.
ГЛАВА III. Лейтмотив прогулки: прогулка — пространство — вещь (А. Ахматова, Н. Гумилёв, О. Мандельштам)
В ГЛАВЕ III выделяются отдельные (наиболее репрезентативные в качестве динамизации пространства) прогулки в лирике Ахматовой, «элизийские» прогулки Мандельштама и итальянская прогулка по Венеции у Гумилёва. В стихах Ахматовой и Мандельштама прогулки настолько частотны, что одно только констатирующее перечисление этого мотива заняло бы несколько страниц. Акмеистическая и постакмеистическая поэзия открывает тему прогулки, и это во многом связано с акмеистическим переживанием вещи. Пространство мыслится акмеистами как место, которое не должно пустовать, которое должно быть заполнено вещами. В художественном мире акмеистов пространственная перспектива никогда не бывает прямой, она заслонена вещью. Вещественная насыщенность обеспечивает статуарность акмеистических стихов, которые полны образами статических состояний. Скульптурность и статуарность невозможна в пространстве сквозном, устремленном, каким является пространство символизма. Акмеистическое пространство, напротив, как бы «задерживается» в городском пейзаже, и акмеизму, как никакому другому течению, присуще внимание к пространствам пригородным. Многие из дорогих акмеистам петербургских пригородов представляют собой царские дворцово-парковые ансамбли с их богатой исторической памятью, образы пригородных пространств, запечатленных в акмеистических стихах, как бы взывают к изучению «царскосельского текста», «павловского акмеистического текста». Именно к прогулке, а не к путешествию располагает постижение родного городского и пригородного пространства, прогулка позволяет рассмотреть предметы в ближайшем ракурсе, заново открыть их, а через них войти в иные локусы, порой лежащие далеко от дома, в иной с ним плоскости. Для темы прогулки не менее, чем для темы путешествия, важна модель выдвигающихся поочередно пространств (пространственного палимпсеста), и ее статус тем выше, чем меньшее расстояние приходится преодолевать. Физическое расстояние, преодолеваемое в прогулке, ничтожно, но это не мешает быстрой смене пространств, сопутствующей теме прогулки, что повышает динамизм стиха при его акмеистической обращенности к застывшим образам. Лейтмотив прогулки содержит в себе семантику медленного движения, часто шага, остановки, окаменения, статуи, картины, погружения через картины прошлого или экфразисные образы в иные пространства, зачастую мистические.
В параграфе «Пространство и вещь в стихах А. Ахматовой» ставится проблема соотношения статики и динамики акмеистического стиха, поскольку именно статика и динамика и вещественность определяют любовь акмеистов к скульптурному, «пригородному» пространству и к самому процессу медленной прогулки по знакомым местам, что позволяет приблизиться к тем или иным объектам, «рассмотреть» их. «Статуарные» мотивы льда, снега, холода у Ахматовой неизменно связаны с творчеством. Внешний облик ахматовской Музы, начиная с самых ранних стихов, приобретает снежно-скульптурные черты, помимо уже неоднократно отмечавшихся, начиная с В. М. Жирмунского, «смуглых» ног и рук, «дырявого платка» и пр. Снежные и ледяные мотивы часто сопровождают темы вечности, незыблемости, творчества, Музы, снег и лед становятся знаком перевоплощения и созидания, меткой того момента, когда из еще не сказанного рождается текст и оказывается материальнее вещественного объекта, «прочнее пирамид». Концепцию горести как творческого стимула Ахматова четко, практически афористически, прочерчивает уже в 1915 г.:
Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
Пластический образ становится «своего рода метафорой героини» (М. Рубинс). Вместе с тем отчаяние преобразовано в творческую силу, которая из страдающего человека делает поэта. Не случайно Гумилёв шутил, что настоящая фамилия Ахматовой «Горенко» подходит ей больше, так как, по сути, отражает ее мироощущение. Поэтический мир Ахматовой окутан плотной пеленой вещественности, пластичности. Стихи ее отличаются конкретностью, почти что осязаемостью. Даже во внешнем облике Ахматовой современники отмечали черты неподвижности и величия, свойственные статуям. Мандельштам видит ее с окаменевшей шалью на плечах, что подчеркивает особенности поэтического мифа Ахматовой — процесса отвердевания, окаменения, застывания:
Вполоборота, о, печаль,
На равнодушных поглядела;
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.
Окаменение в лирике Ахматовой выражает невероятную силу переживания. Сближение таких антитетичных понятий, как «лед и пламень», подчеркивает глубину чувства, а «окаменелая лира» навсегда соединена с «живыми пальцами», творящими поэзию. В ряде стихотворений упоминания холода, льда, снега становятся средством превращения невещественного в материальное. Между тем свойства снега у Ахматовой имеют непосредственное отношение к творческому процессу. Снег является отсылкой к Пушкину, Блоку, Мандельштаму. Мотивы зимы, снега и метели у Ахматовой неоднократно сопровождаются реминисценциями из текстов Пушкина.
В стихотворении «Годовщину последнюю празднуй…» обыгрывается «серебрящийся» снег «Евгения Онегина», созданный на фоне «Первого снега» Вяземского. Ощущение счастья у Ахматовой возникает от имплицитного присутствия пушкинской зимы. Несмотря на кажущуюся неизвестность пути («куда мы идем — не пойму»), в тексте четко очерчена дорога героев: бывшие царские конюшни, Мойка, храм Спаса-на-Крови, Михайловский сад, Инженерный замок, Марсово поле, Лебяжья канавка. Реальное движение сплетается с движением поэтическим: это дорога не только по ночному Петербургу, но и по пушкинскому тексту, по строфам первой и пятой глав «Евгения Онегина», где много зимних описаний, перекличек с Вяземским и Боратынским. Прогулка двух влюбленных становится, как это часто бывает у Ахматовой, не только свиданием героев, но и свиданием поэтов. Пушкин и Вяземский участвуют в этой зимней (правда, пешей, а не в санях) прогулке, и финальный свет («внезапно согретый лучом») возникает как свет поэзии, озаряющий пространство создаваемого текста.
Павловск в стихотворении «Все мне видится Павловск холмистый…» рождается из воспоминания, но описание его дается в виде прогулки (впрочем, не линейной, а, как и подобает воспоминанию, «спутанной», где один пласт свободно наслаивается на другой) — движения от «чугунных ворот», через летний луг и мертвые озера, мимо черных елок «на подтаявшем снеге» к бронзовой статуе Аполлона Мусагета у входа в Новую Сильвию. И, подобно тому, как фонари в стихотворении «Годовщину последнюю празднуй…» появляются, «из тюремного вынырнув бреда», «милый голос» оказывается «исполненным жгучего бреда». «Бред» воспоминаний превращается в поэтический бред на фоне зимнего города или зимнего парка, и пение голоса, подобное пению птицы, оборачивается пением поэта.
В параграфе «О трех “прогулках” в стихах А. Ахматовой» рассматриваются стихотворения «Прогулка», «Побег», «Из цикла «Ташкентские страницы» («В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…»). Стихотворение «Прогулка» (1913) — одно из ранних ахматовских стихотворений — соединяет в себе черты стилизации, отсылающей к творчеству М. Кузмина и М. Добужинского, К. Сомова или А. Бенуа, и так называемого новеллистического психологизма, свойственного Ахматовой. Ахматова создает текст, где под очевидной скованностью повествования латентно присутствует драматизм, свойственный сюжетам ее стихотворений. Булонский лес — пригородное пространство, но здесь речь идет не о торжественных царственных пригородах Петербурга, а о модном пригороде Парижа. В тексте нет мотива ‘ходьбы’ или вообще движения: «прогулка» удивительно статична. Движение отменено, но вместо обычного движения в тексте присутствует метафорическое: движение души, ее трепет, открывающийся читателю во внешних образах. В «Прогулке» на идею динамики работают интонация, дробность фраз, драматизм переживаний героини, однако такой характерный прием для описания движения, пути, как применение глаголов, включен минимально: в тексте всего четыре глагола, и ни один из них не обозначает активного действия (задело, поглядела, томилось, тронул). Ахматова создает натяжение между движением и статикой, между действием и чувством, между миром реальным и миром воображаемым, между прогулкой влюбленных и, возможно, последним их свиданием.
В покой и неподвижность внешнего мира, не нарушаемого ходьбой персонажей, вторгается неотчетливо названный образ либо кареты, либо автомобиля (героиня чувствует «бензина запах»), «экипаж» ограничивает пространство встречи и в то же время потенциально расширяет ее, позволяя героям при желании быстро перемещаться в пространстве. Игра Ахматовой состоит в том, что хотя реального перемещения в тексте нет, но намек на него — и через образ кареты/автомобиля, и через переживания лирической героини — открывает не только идею движения, но и говорит об изменяющемся мире вокруг, несмотря на его внешнюю статичность и живописность. Модный автомобиль («экипаж», помимо значения коляска, городская и загородная карета и т.п., имеет и другое: так называли любые автомобили в те времена, когда они только появились и были предметами роскоши) или уже винтажный для начала ХХ в. фиакр латентно и в то же время непосредственно присутствуют в тексте, а «верх» кареты совмещается с запахом бензина. В стихотворении Ахматовой пространство оказывается двойственным: старинный фиакр существует на фоне изящного автомобиля, словно прогулка растягивается во времени, а лирическая героиня, внешне статичная, от первой к третьей строфе меняет средство передвижения, которое, впрочем, не движется, а настороженно и напряженно замирает, как и чувства персонажей неявной, но очевидной драмы.
В отличие от «Прогулки» в стихотворении «Побег» описано настоящее бегство — навстречу рассвету. Текст построен на диалогах, поддерживающих торопливую, почти задыхающуюся интонацию спешащих к взморью героев. При описании движения по городу Ахматова использует перечисления, что создает динамический эффект скользящей камеры, когда перед взглядом мелькают здания, улицы, знакомые места. Финальная строфа объясняет всю напряженную динамику предыдущих: любовь торжествует, и заря, как в стихотворении А. Фета «Шепот, робкое дыханье…», соединяет влюбленных, будто освящает их союз:
Обессиленную, на руках ты,
Словно девочку, внес меня,
Чтоб на палубе белой яхты
Встретить свет нетленного дня.
Белая яхта символизирует священное место, где будут метафорически «повенчаны» герои перед лицом нового мира, нового дня. Н. Гумилёв в стихотворении «Сентиментальное путешествие» описывает такое символическое венчание влюбленных у «высокого мраморного храма» Афины-Паллады. Посещение храма Афины-Паллады у Гумилёва — обязательный момент путешествия влюбленных, которых богиня поэтически соединяет, даруя им славу и свободу. В стихотворении Ахматовой прогулка, больше похожая на бег, определяет дальнейшее совместное счастье героев.
Стихотворение «Из цикла “Ташкентские страницы”» («В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…») вдохновлено польским художником и писателем графом Юзефом Чапским, с которым Ахматова познакомилась в Ташкенте летом 1942 г. в доме Алексея Толстого. Свойственное вообще Ахматовой чувство сиротства в данном тексте, с одной стороны, приобретает вселенский масштаб, а с другой — наоборот, разделено всем бытием: прогулка поляка и русской, на время лишенных родины, под чужим азиатским небом, «сквозь дымную песнь и полуночный зной», оказывается не одинокой: двух героев сопровождают века, звук шагов умножен — прошлое ведет за собой настоящее и будущее. Лирическая героиня и ее спутник погружаются в таинственный мир чужого города, этот мир фантастичен, как будто бы только что создан («Мы были с тобою в таинственной мгле, / Как будто бы шли по ничейной земле»), и впервые по нему ступает нога человека. Прогулка напоминает появление в райском саду Адама и Евы, герои стихотворения исследуют неизвестный им прежде, новый для людей мир. Темнота окутана «дымной песнью»; далекое созвездие Змея, создающее пространственную вертикаль и бесконечность, открывает поистине новый мир, «ничейную землю». «Дымная песнь» напоминает «Песнь Песней» Соломона, подчеркивая единственность и вечную повторяемость этой прогулки, ее существование вне времени и пространства, хоть как-то соотносимого с реальным.
У М. Шагала есть пять картин на тему «Песни Песней», написанных с 1957 по 1966 гг. В первой, третьей, четвертой и пятой композициях изображены прогулки влюбленных, напоминающие знаменитые полотна Шагала «Прогулка» (1917 — 1918) и «Над городом» (1914 — 1918). В четырех картинах «Le cantique des cantiques» герои изображены на фоне города (I, III), они летят над городом (IV, V), окутанные красновато-розоватой дымкой, а город под ними (рядом с ними) имеет много обликов: это и родной для Шагала Витебск, и Париж, и приютивший его в последние годы Ванс. Важный в творчестве художника мотив прогулки приобретает символическое значение встречи влюбленных в бездонности бытия, встречи, привязанной к конкретным реалиям, без которых невозможно представить себе полотна Шагала, и в то же время любое свидание выглядит на картинах обобщенным, надмирным и ирреальным. Стихотворение Ахматовой близко композициям Шагала «Le cantique des cantiques», в нем одновременно сталкиваются действительно пережитое и лично прочувствованное, буквально пройденное пространство, и фантастический мир грез, созданный неожиданной и почти роковой встречей двух изгнанников-европейцев. «Дымная песнь» пронизывает весь текст, замыкая его в спираль, напоминающую хвост созвездия Змея. Месяц становится «алмазной фелукой», которая словно увлекает героев в неведомый мир, где священной становится «встреча-разлука».
В последней строфе время и пространство отодвинуты от основного действия в будущее, более того, хронотоп переворачивается, и оказывается, что все, описанное в первых пяти строфах, — это далекое прошлое, а сама прогулка — воспоминание о необыкновенной встрече в чужом городе. Вместе с временем и пространством меняется реальность: возможно, все прошедшее было лишь сном, либо воспоминание об этой прогулке рождает новый сон. Причем, как в стихотворении М. Лермонтова «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), Ахматова создает рамочный эффект сюжета в сюжете. Внутри сна автора в деталях расцветает сон о прогулке лирической героини, рядом с этим сном упоминается возможный сон героя о той же прогулке («если вернется та ночь и к тебе»), а затем полунамеком («приснилась кому-то») все возвращается снова к лирической героине и автору. Круг замыкается, и читатель вновь слышит бормотание арыков и запах гвоздик. Прогулка переживается одновременно в реальности и во сне, повторяется, как нечто бывшее и нечто приснившееся, невозможное и сложенное из лепестков времени и обрывков воспоминаний.
Рассмотренные три прогулки взяты из разных книг Ахматовой — первая написана в 1913 г. и была издана в сборнике стихов «Четки»; вторая, входящая в «Белую стаю», — в 1914 г.; наконец, третья далеко по времени отстоит от первых двух — 1959 г., последняя книга стихов. Не сходство или различие между тремя текстами, а все, что включает в себя для Ахматовой мотив прогулки, было целью нашего изучения. Любовная прогулка с намеком на будущий разрыв; побег к морю вместе с любимым, чтобы встретить зарю; чудесный сон о чужом городе, где встретился вдруг оказавшийся близким незнакомец, — в этих сюжетах узнается Ахматова, ее неповторимый стиль, когда мир сжимается в одну точку на фоне нарисованного тушью Булонского леса, или на палубе белой яхты, или под алмазной фелукой месяца.
Следующий параграф «Мистические прогулки А. Ахматовой в пространство сна и памяти» начинается с обсуждения вопроса об использовании акмеистами мотива памяти, через который открывается ход к пространствам ушедшим, к вещам-напоминаниям, позволяющим прикоснуться к иному миру или войти в элизийский мир. Возвращение и воспоминание, пожалуй, — основные мотивы в лирике Ахматовой. Именно через них читателю открывается ее мир, наполненный встречами с друзьями, живыми и умершими; поэтами — современниками (Мандельштам, Пастернак, Гумилёв, Цветаева и др.) и классиками (Пушкин, Данте); городами и любимыми местами; вещами и образами, забытыми и всплывающими в подвалах памяти. Иногда Ахматова описывает пир или карнавал с мертвецами, воскрешенными ею силой любви («Новогодняя баллада», «Поэма без героя»), а иногда — прогулку по дорогим сердцу местам, по Царскосельским аллеям или «между царственных лип» Летнего сада, по улицам Петербурга «сквозь мягко падающий снег» или «по твердому гребню сугроба» в «таинственный дом», вдоль «круглого луга» и «неживой воды» в холмистом Павловске или по белеющей «в чаще изумрудной» дороге.
В стихотворении «Заболеть бы как следует, в жгучем бреду…» встреча с потерянными «милыми» возможна лишь в состоянии сна-бреда, вызванного тяжелой болезнью, когда чувствуешь себя на границе жизни в преддверии смерти. Но именно это состояние манит к себе героиня, потому что мечтает о нездешнем свидании в «приморском саду», о голубом винограде и ледяном вине, которые можно разделить с утраченными возлюбленными. Мистическое свидание мыслится как райская прогулка «по широким аллеям», наполненным теплом солнца и запахом ветра. Это возвращение, но возвращение не просто в прошлое, а как будто в мистическое будущее, подобное когда-то пережитому, но не забытому. Мечта создает картину ирреальной прогулки, напоминающей прежде бывшие, но невозможные сейчас. Ахматова умеет показать ирреальное как самое обыкновенное, доступное и понятное. В ее лирике встреча с собственной тенью происходит на фоне серебряной ивы, слегка погруженной в пруд, воды которого сияют сентябрьской яркостью; солнечный и редкий дождик оказывается божественным вестником; Царскосельский воздух наполнен песнями русских поэтов. Именно такая организация пространства характерна и для стихотворения «Заболеть бы как следует, в жгучем бреду…». Ахматова сознательно путает границы мертвого и живого, а бесплотные образы наделяет бытием и вещественностью. Прогулка «по широким аллеям» превращается в пикник, напоминающий описания-натюрморты Кузмина («Где слог найду, чтоб описать прогулку, / Шабли во льду, поджаренную булку, / И вишен спелых сладостный агат») и в то же время бесконечно далекий от изящного стилистического натурализма.
Прогулка в стихотворении «Сон» происходит не только на границе реальности и сна, но, скорее, уходит вглубь снов героини и героя. Оба сна, накладываясь друг на друга, превращаются в один, который одновременно охватывает пространство сознания двух влюбленных. Полусовместный сон описан Ахматовой как одинокий путь героя на встречу с любимой, которая ждет его, с одной стороны, где-то далеко, на островке посередине озера; с другой — идет рядом с ним, знает каждое его движение, чувствует его спешку, видит мутный свет фонаря и его глазами смотрит на «царицын сад», «белый дворец», «черный узор оград», как будто под ее ногами «хрустит и ломается лед». Соединяя точку зрения лирической героини с авторским голосом, Ахматова создает эффект совместного движения, настоящей прогулки влюбленных, которая завершится узнаванием. Не случайно проснувшийся герой называет героиню по имени «в первый раз»: это говорит о произошедшем внутреннем сближении, о чем и мечтал каждый из них, засыпая.
«Предчувствие, предвосхищение, ожидание, с одной стороны, и воспоминание, ретроспективное переживание, с другой, — естественные для Ахматовой модусы изображения действительности. События, как счастливые, так и несчастные, часто описываются в прошедшем или будущем времени». Этот элемент поэтики часто присутствует у Ахматовой в стихах, где описывается либо дорога героя к героине (или наоборот) или совместный путь (бег) влюбленных к какой-либо цели. Настоящее невыносимо растягивается во времени, и весь хронотоп определяет ожидание будущего чуда (встречи, рассвета и проч.). Движение приобретает характер почти безумия: преодолеть пространство чрезвычайно важно, только это обеспечит неожиданное и вместе с тем долгожданное счастье. В стихотворении «Сон» прогулка, рожденная игрой света и тьмы, жаждой свидания и неизведанностью будущего, обретает черты мистического пути к намеченной, желанной, но до конца неясной цели.
В стихотворении «Памяти Пильняка» почти закодированное обращение к мертвому другу («Все это разгадаешь ты один…») неожиданно превращается в описание светлого эпизода, наполненного радостью свидания. Это свидание происходит вне реального хронотопа, поскольку время отменено и практически «сбито» (зима сплетается с летом, жизнь на какой-то момент отменяет смерть), и в результате остается лишь пространство события — мистическая прогулка в Переделкино, которая словно бы заимствована из действительности, и в то же время существует только в сердце лирической героини. Встреча на лесной тропинке совсем не похожа на свидание с призраком, герой как будто бы и не умирал, но его смех вызывает «странное эхо» (его зрительный вариант у Ахматовой: зеркало). Эхо/зеркало обозначает в ее лирике вторжение в реальность иного мира, как, например, в стихотворениях «Все души милых на высоких звездах…» или «Летний сад», в первом из которых героиня встречает собственную тень, а во втором обыгрывается множество отражений и зеркальных перекличек.
Погибшего Пильняка Ахматова не может ощущать мертвым, он для нее остается тем, кого можно позвать на прогулку, тем, кто встретит ее на тропинке. Но страшное знание проводит черту, отделяющую переживание живой встречи от воспоминания; прошлое, хотя и вторгается в настоящее, не может его окончательно отменить. И отсутствие слез («Я о тебе, как о своем, тужу / И каждому завидую, кто плачет, / Кто может плакать в этот страшный час»), скорее, не позволяет окончательно погрузиться в ирреальный мир, где все еще слышен «беззаботный смех». В стихотворении «Все души милых на высоких звездах…» плач становится частью легкого проникновения в иное пространство, он определяет особое видение героини — лир на ветках, собственной тени и т.д. А текст 1938 г. гораздо суше и от этого трагичнее:
… выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.
Сухость глаз, выкипевшая влага противоположны образам ледяного вина и седого водопада из стихотворения «Заболеть бы как следует, в жгучем бреду…». «Кремнистое влажное дно» превращается в ужасное «дно оврага», где лежат тела убитых. Ахматова словно проходит по краю этого оврага, и никакого изысканного пейзажа (как в тексте 1922 г.) больше не может возникнуть в пространстве ее души: мистическая прогулка в Переделкино внезапно обрывается.
Прогулка как инвариант пути, преодоления или осмысления пространства — земного, ирреального или воображаемого — есть тот динамический аспект, который формирует поэтический мир Ахматовой. Движение, иногда «шествие теней», прогулка по дорожке аллеи, ставшей дорогой, — вот характерные мотивы ахматовской лирики. Встреча с мертвыми происходит на приморской или царскосельской аллее, на улице Москвы, на знакомой тропинке, у водопада. Призрачные гости Ахматовой идут вместе с ней, не замедляя шага, погружая лирическую героиню в мистический топос и отчасти оказываясь в ее мире, в пространстве ее сознания.
В параграфе«“Батюшков” О. Мандельштама: Прогулка в Элизиум» показано, как лейтмотив прогулки воплощается в поэтике Мандельштама на примере стихотворения «Батюшков» (1932), которое собирает в себе множество рефлексов раннеакмеистической поэтики. Развивая батюшковские фонетические приемы, Мандельштам включается в игру с пространствами, начатую великим поэтом золотого века. «Флоренцию в Москве» создает Мандельштам, пользуясь «мифом об Италии», введенным в самосознание русской культуры Батюшковым, пытавшимся сделать родными для русской поэзии образы античности и итальянского средневековья.
Внутри книги «Tristia» можно усмотреть разрозненный микроцикл («Не веря воскресенья чуду…», «Еще далеко асфоделей…», «Золотистого меда струя…», «Я изучил науку расставанья…», «На каменных отрогах Пиэрии…», «Сестры — тяжесть и нежность», «Я слово позабыл…», «Когда Психея-жизнь…», «Возьми на радость из моих ладоней…», «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг…»), ориентированный на модель пушкинско-батюшковской крымской элегии с ее плавными пространственными переходами от Крыма к античной Тавриде, морскими мотивами и гармонизированной фразеологией. Крымско-эллинский микроцикл имеет и биографический подтекст: это лирический роман, вдохновленный М. Цветаевой. Зимой 1916 г. Цветаева «дарила Москву» петербуржцу Мандельштаму, а летом они встретились в Коктебеле, тогда же было написано первое стихотворение крымско-эллинского цикла — «Не веря воскресенья чуду…». В этой кладбищенской элегии Мандельштам по-своему использует отдельные цветаевские темы. Элегическая тональность обеспечивает тексту соприсутствие тем любви и смерти, которое окрашивается Мандельштамом в позаимствованных у Цветаевой мотивах мертвенной бледности. Цветаевские мотивы бледности/смуглости Мандельштам последовательно чередует в стихотворении «Не веря воскресенья чуду…»: бледные и унылые «кладбище», «монастырские косогоры», «монашенка туманная», «лба кусочек восковой», «бедный Спас» сменяются теплыми, «золотистыми» тонами: «локоть загорелый», «смуглая, золотая прядь», «песок», а в стихах «Целую кисть, где от браслета / Еще белеет полоса» бледность и смуглость буквально примыкают друг к другу. Вместе со сменой мотивов бледности и смуглости/загара интенсивно сменяют друг друга контрастирующие между собой локусы: московский и крымский, причем Москва представлена набором любимых Цветаевой образов: «те холмы», «монастыри», «гордость».
Написав стихотворение «Батюшков», Мандельштам вновь возвращается к своему раннему творчеству и к тому общему контексту, который связывал его с Цветаевой. У позднего Мандельштама вообще все более отчетливой становится тема Москвы, Москва оттесняет акмеистический Петербург, а московский локус не может быть создан без оглядки на Цветаеву, стоявшую у истоков поэтического «московского текста» XX в. Стихотворение «Батюшков» откликается на поэзию Цветаевой сюжетом прогулки. «Шагающий в Замостье» Батюшков — это поздняя мандельштамовская вариация на тему пешехода, появившеюся в ранних стихах, в «Камне». Образ «пешехода» у Мандельштама восходит также к прозаическим «Прогулке по Москве» и «Прогулке в Академию художеств» Батюшкова. «Батюшков» — тоже «прогулка по Москве», написанная, по утверждению комментаторов, в квартире на Тверском бульваре, где Мандельштам жил в 1932 г.
Прогулка Мандельштама с Батюшковым оборачивается погружением в темные глубины поэтической традиции, размышлениями о поэтической речи, о природе которой не только рассказано в стихах Мандельштама, но эта «природа» наглядно показана в самом семантическом строе лейтмотива прогулки. Путь прогулки обещает встречу с поэтом-предшественником, путь оборачивается речью, и речью мучительной, затрудненной. Образ рождающейся из хаоса поэтической речи является ключевым в «Батюшкове», «Стихах о русской поэзии», в стихотворении «К немецкой речи». Затрудненность, темнота, «нездешнее» происхождение поэтической речи объясняется ее как будто бы даже нечеловеческой природой, уходом от всего живого, уничтожением плотского и возрождением в каком-то другом, идеальном, будто бы Элизийском мире. Поэтическая гармония и стройность проистекает, по Мандельштаму, из мучительно-аморфных состояний материи, самого лирического «я» и его двойников-поэтов: «наше мученье», «только стихов виноградное мясо» («Батюшков»), «белок кровавый белки / Крутят в страшном колесе» («Стихи о русской поэзии»), «Баратынского подошвы / Раздражают…», «Лермонтов — мучитель наш…» («Дайте Тютчеву стрекозу…»). В то время, когда создается стихотворение «Батюшков», Мандельштам чувствует свою обреченность на смерть, и, видимо, поэтому в его сознании «угроза пустоты», и без того ведомая всем акмеистам, становится еще серьезней. Поэзия, поэтический язык стираются, размалываются в «виноградное мясо», но все-таки с подспудной надеждой на возрождение. Мысль о возрождении, бессмертии и нетленности проводится через изысканную форму прогулки, приобщая Мандельштама накануне гибели к русскому поэтическому Элизиуму.
В начале параграфа «Венецианская прогулка Н. Гумилёва» указывается, чтов творчестве Гумилёва прогулки встречаются не часто, его поэтический темперамент слишком динамичен для созерцательного шага. Однако для анализа мы выбрали одну из гумилёвских немногочисленных прогулок — прогулку по Венеции, образы которой в какой-то степени напоминают знаменитые «Венеции» Фета, Блока, Мандельштама, Пастернака и др. поэтов и в то же время совершенно на них непохожи. «Венеция» Гумилёва создана в особенном «полубалладном» стиле, включающем любимые мотивы поэта и способы определения им географического пространства. Это описание таинственной прогулки, когда автор скрыт за маской «гуляки» (чуть ли не «венецианской бауттой»), а переживание города открывается через фантастический полулирический, полуповествовательный сюжет. Традиционные мотивы Венеции — черные гондолы, зеркала, лагуна, крылатый лев на соборе Св. Марка, голубиный хор — заданы как эффектные декорации к почти мистической ночной прогулке путника. Город превращается в сцену, на которой разворачивается театральное действие. Балладные оттенки стихотворения отсылают к «Маскараду» и «Ужасу» из «Романтических цветов» (1907), к более позднему «Всаднику» (1916). Герой стихотворения Гумилёва одновременно выступает в роли наблюдателя и главного участника происходящих событий: «Сердце ночами бесстрашней. / Путник, молчи и смотри». Двойственная позиция помогает автору отделиться от персонажа, но, между тем, оставаться рядом с ним, руководить его действиями, как режиссеру спектакля.
Реальная прогулка по Венеции показана как ирреальная: Гумилёв видит город скорее воображаемым, чем действительно существующим и воспринимаемым героем. Это неудивительно, если учитывать общее значение Венеции в русской культуре, если вспомнить «Итальянские впечатления» В. Комаровского, который никогда не был в Италии и, тем не менее, написал семь «топографически убедительных» стихотворений о ней. Венеция у Гумилёва более всего похожа на театр, играющий подобиями и масками. В статье о творчестве А. Ватто М. Деги писал: «Театр — это искусство сопоставлений, артефактов для разыгрывания антропоморфоза. Театр — а в нем стоило бы видеть не отвлеченный текст, а место со своими особыми местами и драму жизни актеров — изобретает метафоры, например в названиях собственного пространства… в подогнанных к ним фабулах, трудах актерского выражения и т.д.». Поэзия акмеизма ориентирована на «стаффажную» живопись в стиле К. Сомова, А. Бенуа, для которых А. Ватто был «старинным образцом», поводом для стилизаций. Поэтические картины акмеистов не менее театральны, чем мирискусническая живопись, они тоже скрывают под собой многослойные стилистические напластования, причем отдельные интонации отмечены легким пародийным эффектом.
Демонические свойства ночного города неоднозначны и так же дробятся в водах каналов, как и отражения дворцов. Одна из знаменитых историй о Кресте, на сюжет которой венецианский живописец Джентиле Беллини создал картину, описывает чудо Креста Христова: «когда по какой-то случайности … реликвию Креста уронили с Понте делла Палья в канал, то из благоговения к древу креста Господня многие бросились в воду, дабы достать его, но по воле божьей никто не оказался достойным прикоснуться к нему, за исключением настоятеля этой скуолы. Воспроизводя эту историю, Джентиле изобразил в перспективе на Канале гранде много домов, Понте алла Палья, площадь Сан Марко и длинную процессию женщин и мужчин во главе с духовенством, а также многих бросившихся в воду, других же собирающихся броситься, многих наполовину под водой, остальных же в других прекраснейших положениях и позах, и, наконец… настоятеля, достающего реликвию», — пишет Дж. Вазари. Мистическая смерть путника в стихотворении Гумилёва, таким образом, приобретает двойственные черты. Возможно, прогулка — это гибельное проникновение в неизведанный мир таинственного города, губящий неосторожного любопытного странника; возможно, это вариант Крещения, также переносящий героя в новое пространство. Интересно, однако, то, что поэт отказывает себе лично в описании прогулки по Венеции, что реальное путешествие здесь скрыто под условным масочным миром некоего персонажа, что Венеция так и остается непостижимой, фантастической.
Выводы к ГЛАВЕ III. Лейтмотив прогулки у акмеистов существует в двух вариантах. С одной стороны, как стилизации мирискуснического «галантного пространства», позволяющей совместить интимную, любовную тему с изобразительными и пластическими картинами, что дает акмеистам возможность разрабатывать и углублять экфрастические возможности и оттачивать пластику самого стиха. В других случаях тема прогулки сопровождается описанием встречи с далекими предшественниками, память о которых хранит родное, близкое пространство. Прогулка позволяет понять, что огромные временные дистанции могут быть охвачены и в родном, окружающем дом локусе. Прогулка становится погружением в глубину культур (чаще всего в поэтическом варианте), таким образом акмеистические стихотворения-прогулки обнаруживают свою причастность к большой группе элегий и дружеских посланий на тему «Элизиум поэтов». Акмеисты возобновляют и эту классическую тему, разрабатывают ее параллельно с Цветаевой («Встреча с Пушкиным» и т.д.), открывают ее для футуристов («Юбилейное» В. Маяковского, «Шекспир» Б. Пастернака).
Для Ахматовой и Мандельштама лейтмотив прогулки чрезвычайно актуален на протяжении всего творчества. Мотив Элизиума поэтов станет одним из ключевых в «Поэме без героя» Ахматовой и занимает видное место в поздних стихах Мандельштама. Видимо, здесь дело в том, что лейтмотив прогулки выявляет пространство в его хайдеггеровском понимании, когда простор — это не вектор, устремленный вдаль (такой взгляд на пространство больше подходит символизму), а место, которое может освобождаться при взаимной игре мест. Прогулка, никуда не уводя от дома, означает подле него такие точки, такие места, которые способны изнутри самих себя развертываться веером скрытых внутри них пространств.
В Заключении подводятся итоги диссертационной работы, намечаются пути и перспективы дальнейших исследований. Решение проблем пространственной динамики связано с рассмотрением пространственных образов художественного текста. Нас интересовали те аспекты, которые позволяют выявить в поэзии акмеизма меняющееся пространство и смену пространств, их совмещение, наложение, наплывы одного пространства на другое. Наблюдая за образами движения, мы получили возможность рассмотреть характерные черты и особенности сложно устроенного художественного пространства в лирике акмеистов, для которой особенно важными оказываются черты, указывающие на отношение пространств «внутренних» и «внешних», в свою очередь, манифестирующих отношения между субъектом восприятия и его объектом. Динамический характер образа пути, его негомогенность делают любой текст о путешествии пространственным палимпсестом: вслед за одними открываются другие пространственные картины, иногда пространства просто «накладываются» друг на друга. Соприсутствие несовместимых пространственных картин определяет модальность поэтических путешествий, и это модальность ирреальная, поскольку стихотворные путешествия заключают в себе «возможные сюжеты».
Обнаружению лирической динамики способствует описание интертекстуальных связей текста, и в нашей работе этому было уделено серьезное внимание. Мы показали интертекстуальные связи между стихотворениями Гумилёва и Бальмонта, Э. По, Бодлера, Рембо, Мандельштама — и Вийона, Ахматовой — и Пушкина, Лермонтова и т.д. Именно в области исследований по акмеистической поэтике возникло и стало плодотворно работать понятие «подтекста» (К. Тарановский), которое в чем-то предсказало и предвосхитило интертекст, широко распространившийся и примененный теперь уже к творчеству, наверное, всех без исключения художников.
Тема путешествия у акмеистов образует характерный лирический сюжет. Что же касается проблемы пространственной динамики текста, то наше исследование показало, что эта проблема не снимается и для текстов, ориентированных на следование поэтической традиции, каковыми являются тексты акмеистические, хотя обычно вопросы пространственности поэтических текстов принято изучать на примерах из поэзии авангарда. Изучение пространственной динамики текстов, не декларирующих свою пространственность, а скрывающих ее в себе, относится к перспективам заданного направления.
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:
Монография:
Куликова Е. Ю. Пространство и его динамический аспект в лирике акмеистов. — Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2011. — 530 с. — 30,81 п.л.
Статьи, опубликованные в изданиях, рецензируемых ВАК:
- Куликова Е. Ю. О сквозном пространстве в лирике В. Ходасевича («Соррентинские фотографии») // Гуманитарные науки в Сибири. — Вып. 4. — 2008. — С. 11-15. — 0,5 п.л.
- Куликова Е. Ю. «Летучий Голландец» в «Заблудившемся трамвае» Н. Гумилёва // Гуманитарные науки в Сибири. — Вып. 4. — 2009. — С. 39 — 43. — 0,5 п.л.
- Куликова Е Ю. Мотивы плавания и кораблей в очерке В. Ходасевича «Бельфаст» // Сибирский филологический журнал. — Вып. 2. — 2009. — С. 93-101. — 0,5 п.л.
- Куликова Е. Ю. Африканские «картинки из книжки старинной» Н. Гумилёва // Сибирский филологический журнал. — Вып. 4. — 2010. — С. 76-83. — 0,5 п.л.
- Куликова Е. Ю. «Моление о чаше» Ф. Вийона в поэтическом мифе О. Мандельштама // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Сер. «Филологические науки». — Вып. 10 (54). — 2010. — С. 137-140. — 0,36 п.л.
- Куликова Е. Ю. О мандельштамовском путешествии к Вийону // Вестник Удмуртского университета. Сер. «История и филология». — Вып. 4. — 2010. — С. 3-11. — 0,8 п.л.
- Куликова Е .Ю. Пространство мистической прогулки в стихотворении Анны Ахматовой «Памяти Пильняка» // Вестник Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. — Вып. 2 (16). — 2011. — С. 201-204. — 0,4 п.л.
- Куликова Е. Ю. О мистических прогулках в стихах А. А. Ахматовой // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Сер. «Филологические науки». — Вып. 5 (59). — 2011. — С. 122-125. — 0,4 п.л.
- Куликова Е. Ю. О пространственной динамике в лирике акмеистов// Вестник Сургутского государственного педагогического университета. — Вып. 3 (14). — 2011. — С. 189-193. — 0,33 п.л.
- Куликова Е. Ю. О динамическом лейтмотиве прогулки в лирике акмеистов // Сибирский филологический журнал. — Вып. 4. — 2011. — С. 122-125. — 0,3 п.л.
- Куликова Е. Ю. Акмеизм vs символизм: пространство, вещь, лирическая динамика // ФИЛОLOGOS. — Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2011. — Вып. 11. — С. 56-63. — 0,57 п.л.
- Куликова Е. Ю. «Таинственный путь» в стихотворении Анны Ахматовой «Сон» // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Сер. «Гуманитарные науки». — Вып. 4. — 2011. — С. 116-118. — 0,24 п.л.
- Куликова Е. Ю. Прогулки в лирике Анны Ахматовой // Вестник Удмуртского университета. Сер. «История и филология». — Вып. 4. — 2011. — С.32-39. — 0,6 п.л.
- Куликова Е. Ю. О “продвижении в пространстве” и о “пребывании в пространстве” в лирике акмеистов // Вестник Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. — Вып. 4 (18). — 2011. — С. 183-185. — 0,3 п.л.
- Куликова Е. Ю. О вийоновском пространстве в поэзии О. Мандельштама // В мире научных открытий. — Красноярск: Научно-инновационный центр. — Вып. 11.6(23). — 2011. — С. 1659-1668. — 0,5 п.л.
- Куликова Е. Ю. О поэтических путешествиях в лирике акмеистов // Научная мысль Кавказа. — Вып. 4. — 2011. — С. 149-153. — 0,5 п.л.
- Куликова Е. Ю. Художественная динамика и лейтмотив путешествия в лирике акмеистов // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. «Филология. Искусствоведение». — Вып. 61. — № 37 (252). — 2011. — С.57-60. — 0,45 п.л.
Публикации в других изданиях:
- Куликова Е. Ю. «Куда ж нам плыть?..» (приглашение к путешествию Пушкина, Бодлера и Гумилёва) // Studia Rossica Posnaniensia. — Z. XXXII. — Poznań: Universytet im. Adama Mickiewicza, 2005.— Р. 39-49. — 0,5 п.л.
- Куликова Е. Ю. К мотивным анализам стихотворений Анны Ахматовой: снег, лед, холод, статуарность, творчество // Русская литература в меняющемся мире: Мат-лы международной научной конференции (30-31 октября 2006). — Ереван: Изд-во РАУ, 2006.— С. 253-273. — 0,8 п.л.
- Куликова Е. Ю. Корабли-призраки в лирике Н.С. Гумилёва и их поэтические прообразы // Нарративные традиции славянских литератур. Повествовательные формы средневековья и Нового времени. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 2009. — С. 65-90. — 0,8 п.л.
- Куликова Е. Ю. «Заблудившийся трамвай» Гумилёва и корабли-призраки // Филологический класс: Региональный методический журнал учителей словесников Урала. — Вып. 22. — 2009. — С.51-57. — 0,7 п.л.
- Куликова Е. Ю. Поэтическая чаша О. Мандельштама и Ф. Вийона // Филология — XXI: Материалы международной научной конференции. — Караганда: Центр гуманитарных исследований, 2010. — Ч. 1. — С. 88-94. — 0,4 п.л.
- Куликова Е. Ю. Вийоновский код в поэзии О. Мандельштама («век-зверь» и «человек-зверек») // От текста к контексту: межвузовский сборник научных работ под ред. З.Я. Селицкой. — Ишим: изд-во ИГПИ им. П. П.Ершова, 2010. — Вып. 9. — C. 82-85. — 0,4 п.л.
- Куликова Е. Ю. О «легкой жизни» и о «легкой смерти» (Вийон на мандельштамовском «пире во время чумы») // Лирические и эпические сюжеты. Сер. «Материалы к Словарю сюжетов русской литературы». — Новосибирск: РАН СО ИФ, 2010. — Вып. 9. — С. 123-131. — 0,4 п.л.
- Куликова Е. Ю. Вийоновский «пир во время чумы» в «Фаэтонщике» О. Мандельштама // IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები კლასიკური რეალიზმის ეპოქა: მე-19 საუკუნის კულტურული და ლიტერატურული ტენდენციები ეძღვნებაა აკაკი წერეთლის 170-ე წლისთავს. IV International Sympozium Contemporary Issues of Literary Criticism The Epoch of Classical Realism: 19-th Century Cultural and Literary Tendencies Dedicated to Akaki Tcereteli's 170-th Anniversary. Proceedings. — Tbilisi: Institute of Literature Press. — 2011. — С. 200-208. — 0,4 п.л.
- Куликова Е. Ю. Прогулка по Венеции Николая Гумилёва // Критика и семиотика: Институт филологии СО РАН — НГУ — РГГУ. Новосибирск — Москва. — Вып. 14. — 2010. — С. 179-185. — 0,4 п.л.
- Куликова Е. Ю. Мертвые корабли и мертвые моряки в поэзии И.А. Бунина (к литературным истокам бунинской морской темы) // Кормановские чтения. Статьи и материалы Межвузовской научной конференции (Ижевск, апрель, 2011). — Вып. 10. — Ижевск, 2011. — С. 108-118. — 0,5 п.л.
- Куликова Е. Ю. Неоконченное плавание как путь к Беатриче в стихотворении М. Зенкевича «На “Титанике”» // Литература и документ. Сборник научных трудов. — Новосибирск: РАН СО ИФ, 2011. — С. 120-132. — 0,8 п.л.
- Куликова Е. Ю. Puteshestvie i progulka v tvorchestve akmeistov: A.A. Akhmatova // AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages): Program of the 2011 Annual Conference. Hilton Pasadena. January 6-9, 2011. — Pasadena. California, 2011. — Р. 141-142. — 0,1 п.л.