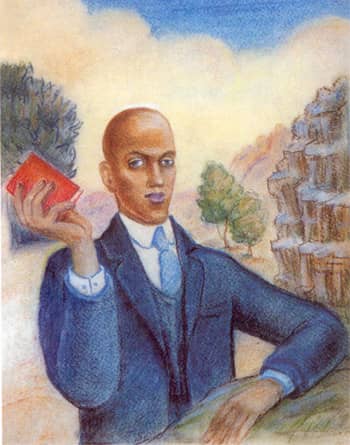О Гумилёве... / Проза
Поэтика новелл Н. С. Гумилёва 1907–1909 годов
Глава III. Тварь и творец: «чужое» слово и «новый» миф в новеллах Гумилёва.
3.1. «Черный Дик»
Новелла Гумилёва «Черный Дик» была написана в 1908 году и тогда же опубликована в газете «Речь» (№ 142). Сюжет новеллы повествует об ужасных событиях, происшедших в маленькой деревушке в незапамятные времена. Главный герой рассказа Черный Дик был заводилой в веселье и в пьянстве среди молодежи. Дик игнорировал нормы человеческой морали: совращал девушек, вымогал деньги, пил, дрался. Церковь в деревушке «даже по большим праздникам была пуста, и какой-то шутник выбил в ней все стекла» [18 : VI : 40]. Однако вскоре в деревне появился новый пастор, который рассуждал только о конце света, Страшном Суде и адских мучениях, ожидающих грешников. Гневные инвективы священника спровоцировали бешеную ярость Черного Дика. Он предложил своим товарищам совершить дикое преступление: изнасиловать немую двенадцатилетнюю девочку, живущую в уединении на острове.
Толпа поддалась на его уговоры. Девочке чудом удалось вырваться из его рук, она убежала к скалам, сорвалась и упала в пропасть. «Дик протяжно завыл и прыгнул вслед за ней» [18 : VI : 46]. Люди осторожно спустились на берег моря и увидели страшную картину: погибшую девочку «с разбитой головой и грудью, из которых текла кровь» [18 : VI : 46], а возле девочки «сидела какая-то мерзкая тварь, большая и волосатая, с глазами, горевшими как угли» [18 :VI : 46]. Люди убили это чудовище, но лишь потом вдруг поняли, что это был Черный Дик.
Новелла не привлекла внимания современной критики. Позже многими исследователями творчества Гумилёва [18 : VI: 339–340] она воспринималась как наиболее декадентски-извращенное произведение начинающего писателя. В критических публикациях настоящего времени дается моральная оценка главного героя новеллы, его взаимоотношений с окружающим миром и его превращения в зверя. Частично рассматриваются жанрово-стилистические особенности и литературные источники произведения. Так, Д.С. Грачева, считая героя новеллы «Черный Дик» «самым отталкивающим из персонажей Гумилёвской прозы», пишет: «Принцип жизни Черного Дика заключается в том, что „все дозволено”, главное – веселье. Только смех его страшен. <…> Ни любовь, ни жалость, ни чувство долга, ни сострадание незнакомы герою, потому что он живет по законам, которые диктует ему плоть, но не душа и разум. Не случайно Черному Дику противопоставлен пастор, взывающий к спасению души и пытающийся наставить на путь истинный парней, окружающих героя. И аскетизм, и гневные проповеди пастора оказываются противопоставленными поступкам и словам Дика. И все же пастор не является alter ego автора. Путь, которым идет пастор, ложный, он приводит не к спасению душ тех, к которым тот взывает, а к дальнейшим несчастьям. Призыв к насилию порождает насилие, только жертвой его становится чистая, безвинная, одиноко живущая на острове девочка (именно ее, а не пастора можно назвать героем-антиподом Черного Дика)» (цит. по: [18 : VI : 224]).
Для некоторых исследователей образ Черного Дика непосредственно связан с демонической силой. И. Ерыкалова, например, полагает, что «само существование добра провоцирует дьявола и приводит его в бешенство. Этот мотив, восходящий к романтизму XIX века, по лаконизму и жесткой определенности сюжета принадлежит литературе XX века. Правдивая интонация лишь оттеняет мистический смысл, вечное столкновение добра и зла, Христа и дьявола» (цит. по: [18 : VI : 340]).
Ю.В. Зобнин также обращает внимание на «классическое» столкновение в «Черном Дике» добра и зла, однако, рассматривая его в общем контексте Гумилёвского творчества того времени, находит, что «зверское» в герое оценивается скорее на уровне эстетического, чем этического проявления: «Превращение человека в зверя, обнаруживающее присутствие „стихии” в его природе, у раннего Гумилёва вовсе не является сколь-нибудь трудной задачей, напротив, взгляд художника с легкостью прозревает „зверя” в человеке, что и подтверждается целым рядом „анималистических” метафор» [24 : 254].
Для М.Ю. Васильевой суть «Черного Дика» заключается в его психологическом аспекте. Причем автор, по мнению исследовательницы, нашел здесь новые способы художественного самовыражения: «неожиданность и необычайность событий оказались средством воплощения сложнейших поворотов внутренней жизни, которые не поддавались конкретизации в форме бытовых и психологических процессов. Гумилёв <…> сознательно освобождал образ сверхъестественных сил от таинственного (и жуткого) колорита, поскольку обращение к ним всегда объясняется теми или другими возвышенными запросами человеческой души. <…> Следует признать самобытную новизну писателя и в этой области» [14 : 16].
Многие исследователи отмечают в новелле Гумилёва изобилие реминисценций из русской классической литературы, которые «часто оказываются более завуалированы, чем отсылки к западноевропейской культуре» [18 : VI : 341]. Так, Д.С. Грачева указывает на важное значение в «Черном Дике» интертекста «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя: «В „Черном Дике” встречаются реминисценции из трех повестей Гоголя: „Страшная месть”, „Майская ночь, или утопленница” и „Вечер накануне Ивана Купалы”» (цит. по: [18 : VI : 341]). Она доказывает, что образ Черного Дика восходит и к образу колдуна, отца Катерины из «Страшной мести». «Он сам не дьявол, но связан с ним, он, как и упомянутые герои, принимает истинный облик – звериный и посягает на невинное создание, тоже в каком-то смысле ребенка – свою дочь» (цит. по: [18 : VI : 341–342]).
Многие исследователи, в том числе и В. Рождественский, полагают, что, несмотря на гоголевский интертекст, местный колорит и общий фон действия в «Черном Дике» восходят, прежде всего, к «шотландским» произведениям Стивенсона. Причем не к его широко известным приключенческим романам, а к небольшим «рассказам ужасов» с оттенками сверхъестественного и демонического – прежде всего, к произведениям 1881 года «Окаянная Джанет» и «Веселые молодцы». Некоторые элементы сюжета и развязки новеллы «Черный Дик» восходят к «Странной истории Доктора Джекила и Мистера Хайда» [18 : VI : 342–346]. Само название рассказа, несомненно, навеяно Стивенсоном. Имя Дик – вполне в духе творчества этого писателя: к примеру, так зовут главных героев «Черной стрела» и «Истории одной лжи». Но особенно значимы устойчивые «демонические» коннотации черного цвета в названных шотландских рассказах. Как поясняется в единственном авторском примечании к «Окаянной Джанет»: «В Шотландии было распространено поверье, что дьявол являлся в виде черного человека» (цит. по: [18 : VI : 342]).
Анализируя названные литературные источники «Черного Дика», исследователи замечают, что Гумилёв как всегда оригинален в разработке этого материала. В то же время они констатируют, что многие составляющие «Черного Дика», судя по всему, восходят к гораздо более широкому кругу претекстов. Учитывая и то, и другое, а также то, что для прозы Гумилёва характерна необычайная сложность, насыщенность и многослойность, представляется возможным и необходимым продолжить исследование поэтики и авторской концепции «Черного Дика».
Как было доказано исследователями, в «Черном Дике» функционируют христианский (неохристианский), языческий, ницшеанский мотивы [18 : VI : 339–345]. Кроме того, на наш взгляд, важную роль в нем играет оккультный мотив. Причем если первые три реализуются на уровне сюжета, то последний находит художественное воплощение при помощи символических образов и разворачивается в подтексте.
«Черный Дик» – единственная новелла, имеющая эпиграф, в частности, автоэпиграф: «Был веселый малый Черный Дик / Даже слишком, может быть, веселый…» [18 : VI : 39]. Эпиграф обычно указывает на источник вдохновения или на главный мотив произведения. Как отметили Г. Струве [19] и Р.Л. Щербаков [19], эпиграф к «Черному Дику», очевидно, представляет собой специально сочиненные для этой цели стихи самого Гумилёва. О возможном эффекте этого приема написала Д.C. Грачева: «Обычно эпиграф отсылает к предшествующему культурному полю, позволяя проводить параллели и делать выводы <…> Может показаться странным, что автор обращается к своим собственным строкам, но еще более удивляет тот факт, что эти строки из несуществующего стихотворения, они словно указывают на „путь в никуда”. Движение будто замыкается в рамках рассказа, где эпиграф и сам текст объясняют друг друга» [16 : 224]. Действительно ли это «путь в никуда», или эта авторская мистификация все же выводит за рамки произведения? Представляется, что автоинтертекстуальный эпиграф новеллы отсылает и к предшествующей литературе, и к творчеству самого Гумилёва. Первое достигается стилизацией стихотворных строк под английскую балладу, а второе тем, что сквозь эту «чужую» художественную модель все же просматриваются приметы поэтики баллад самого Гумилёва. Кроме того, в самом тексте новеллы обнаруживаются многомерные связи с текстами Гумилёва. Автоцитация проявляется на эксплицитном и имплицитном уровнях.
Описание острова, на котором живет девочка, явно восходят к ландшафту в незавершенной повести «Гибели обреченных» (1906), в самом первом прозаическом опыте Гумилёва. Интересным оказывается не только некоторое совпадение в описаниях архаического мира (ср. в повести «Гибели обреченных»: «И жемчужными вечерами, когда выплывали на берег гордые морские кони, и их ржание, как божественный хохот, прокатывался по водной пустыне…» [18 : VI : 9]), но взаимосвязь этих произведений на идейно-художественном, мотивном уровне. А описание «древнего мира» недвусмысленно указывает на «оккультный», мистический подтекст «Черного Дика».
Автоцитация, проявленная в описании Большого Острова, вызывает ряд смысловых обертонов, отсылающих читателя не только к учениям Каббалы об Адаме Кадмоне (см. стихотворения и новеллы «Принцесса Зара», «Дочери Каина»), но и к «Тайной Доктрине» Е. Блаватской, в частности, к «Антропогенезису», где речь идет не только о генезисе человеческой цивилизации, но и об эволюционном процессе, характеризующемся сменой рас. Упоминание же дольменов, черных камней и т.д. семантически связано и с ранней новеллой Гумилёва «Вверх по Нилу» (1907), и со стихотворениями Гумилёва («кельтский цикл»).
Гумилёв ассимилирует художественный мир предыдущих произведений, достигая тем самым эффекта смысловой многослойности в новелле «Черный Дик». С одной стороны, этот авторский прием не позволяет точно определить все автоинтертекстуальные связи новеллы, но с другой стороны, предоставляет широкие возможности для ее различных прочтений и интерпретаций. Благодаря интертексту и автоинтертексту новелла «Черный Дик» может трактоваться с точки зрения широчайшего культурно-литературного контекста. Полагаем также, что новелла «Черный Дик» представляет собой весьма сложный, символический шифр, выявляющий глобальные антиномии: вера-безверие, язычество-христианство, сила-бессилие, любовь-похоть, добро-зло и пр.
К началу ХХ века традиционная для русской демократической творческой интеллигенции XIX века антицерковная фронда превращается в русском модернизме «серебряного века» в сознательную ересь и кощунство – явление в русской литературе невиданное. До этого момента оппозиция по отношению к Церкви выражалась в светском интеллигентском творчестве преимущественно в презрительном игнорировании форм религиозной жизни как «предрассудков отсталого народа», неактуальных для просвещенного художественного мировосприятия, либо в критике общественно-порочной позиции духовенства (в нелегальной революционной литературе) – при подчеркнутом пиетете собственно к догматике и этике православного вероучения. Началась, по меткому выражению протоиерея Георгия Флоровского, «роковая болезнь – одичание умственной совести» (цит. по: [24 : 289]).
«Чего только не проделывали мы за последние годы с нашей литературой, – сетовал И. Бунин, – каким богам не поклонялись?.. Мы пережили и декаданс, и символизм, и натурализм, и порнографию, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и „полеты в вечность”, и садизм, и приятие мира, и неприятие мира... Это ли не Вальпургиева ночь!» [12 : 529].
В «Черном Дике» Гумилёв излагает свою позицию, напрямую относящуюся к вопросам веры и безверия, волновавших русскую общественную мысль начала XX века. В новелле повествуется о жизни людей на острове, на котором есть и церковь, и пастор. Знаковой, очевидно, является и фраза: «…старый пастор умер, и нам назначили другого. Этот повел дело иначе» [18 : VI : 40]. Представляется, что в этих словах сосредоточены отголоски полемики, волновавшие русскую общественность в начале XX века, – критике подвергались священнослужители, высказывались мнения о том, что церковная политика должна быть несколько иной, отличающейся от ортодоксальной, которая была неизменной на протяжении многих веков. В эпоху «серебряного века» речь уже не шла об определении личной позиции по отношению к Церкви – негативной или позитивной, – речь шла о преодолении «старой», «традиционной» воцерковленности и создании «нового религиозного сознания» как альтернативы «сознанию старому», т. е. православному. Но проповеди «нового» священнослужителя не трогают человеческие сердца, потому что пастор лишь гневно запугивает прихожан, грозя Страшным Судом, концом света и адскими мучениями, «ожидающих еретиков, развратников и пьяниц» [18 : VI : 40]. Гумилёв подчеркивает: «Церковь даже по большим праздникам была пуста, и какой-то шутник выбил в ней все стекла» [18 : VI : 40]. Пастор пытается открыто бороться не со сверхъестественным, а с безбожным прихожанином Диком. Гумилёв перечисляет грехи Черного Дика: кощунство («богохульные, мерзкие песни были одним нашим развлечением»), блуд («не одну светлоглазую скромную невесту выгнали по его вине брюхатой из дому»), леность («а он спал до полудня»), пьянство («пил как шкипер»), агрессивность («легко побивал всех парней в округе, а драться он любил»), поминание имени Господа всуе («божился лучше королевского солдата»). Не трудно заметить, что Дик был повинен почти во всех смертных грехах, к которым принято причислять гордыню, убийство, уныние, воровство, блуд, пьянство, кощунство и ложь. По понятиям же русского человека грех – это болезнь души. Грех (от слав. «грети»; первоначальное значение: «то, что жжет, мучает, вызывает сомнение») – моральная вина человека перед Богом и другим человеком.
Пастор, ворвавшись в таверну, пытался образумить прихожан: «Опомнитесь, откажитесь от пьянства и идите домой, где ваши голодные, избитые вами жены плачут кровавыми слезами. А это чудовище, – тут он поднял руки почти к самому лицу Черного Дика, – это чудовище камнями и дубинами прогоните в леса к его братьям-разбойникам и бешеным волкам. Тогда только я смогу молиться о вашем спасенье» [18 : VI : 41].
Ю.В. Зобнин, отмечая связь баллады Гумилёва «Сегодня у берега нашего бросил свой якорь» с новеллой «Черный Дик», писал, что «и в балладе, и в рассказе главными героями являются антиподы, причастные, соответственно, к „добру” и „злу”, что обусловливается многократно варьирующимися на всех стилистических уровнях приемом контраста, – а „толпа” мечется от одного „вождя” к другому и, в конечном счете, не может пристать ни к одному. Трагедия Гумилёвских оппонентов „зла” в том, что их эстетическая несостоятельность связана с недостаточностью духовной, с неубедительностью „добра”, не нашедшего опоры в „динамике духа”, косного, догматического добра. Это характерное для художественного менталитета ХХ века противоположение Красоты – Истины, влекущее за собой неизбежные проблемы в области теодицеи, было для Гумилёва – художника и православного христианина – непереносимо…» [26 : 27].
Соглашаясь с этой точкой зрения, уточним, что в новелле Гумилёва толпа «не мечется» и не разрывается в своих симпатиях между двумя главными героями, Диком и пастором. Она пребывает в веселье и попойках только с Диком, который, очевидно, для нее более привлекателен, пастор же оказывается лидером формальным. И хотя, исходя из контекста повествования, два героя новеллы Гумилёва должны бы составлять определенную оппозицию: вера-безверие, добро-зло, тем не менее, этого не происходит.
Во-первых, пастор своими словами не только нарушает Христову заповедь («Возлюби ближнего своего как брата»), но и ставит условие: при каких обстоятельствах он будет молиться за людей, а при каких – нет, забывая о жертвенном самоотречении любви к людям. Создается впечатление, что даже священник забыл, что такое любовь к ближнему. Пастор только угрожает разными страшными карами, пытается держать своих прихожан в страхе. У читателя возникает глубокое сомнение в истинности веры самого священнослужителя. Тем более, что с верою должны быть неразлучны и добрые дела, иначе – «вера без дел мертва» (Иак. 2 : 20).
Во-вторых же, своими гневными и обличительными инвективами именно пастор накаляет конфликт до точки кипения, другими словами агрессия вызывает к жизни еще большую агрессию. Слова священника пробуждают необузданную злобу Черного Дика и его извращенную фантазию. Потому что сам пастор обуян смертными грехами – гневом и гордыней.
Правда, следует отметить, что образ пастора в новелле претерпевает некую трансформацию, он публично кается перед людьми, признавая собственную вину: «Я виноват перед тобою, Дик, – сказал он, – виноват перед вами, мои друзья, когда отрывал вас от ваших забот и призывал к насилию. Всякому дана своя судьба, и не подобает нам, ничего не знающим людям, своевольно вмешиваться в дело Божьего Промысла. Своей гневной речью я совершил великий грех и заплачу за него долгим раскаянием. Но мое сердце обливается кровью, когда я подумаю, что и вы готовы совершить тот же грех. Зачем вы поймали это несчастное созданье, что вы хотите делать с ребенком? Не может существо, созданное по образу Бога, родиться от дьявола. Да и дьявол живет только в озлобленном сердце» [18 : VI : 42]. К сожалению, к этому моменту уже ничего нельзя было изменить: злоба, гордыня и гнев уже произвели на свет страшное преступление. Однако смысловая содержательность новеллы этим не исчерпывается.
Уже говорилось о том, что Гумилёв сознательно перечисляет грехи Черного Дика. Известно также, что в христианстве животное – символическое воплощение грехов человеческих. Христианская сотериология трактует реальную встречу с хищным зверем как встречу с живым воплощением собственной плотской страсти, отраженной в «дьявольском» зеркале поврежденной первородным грехом природы. Известны также всевозможные «бестиарные» аллегории в христианстве. Из духовной литературы эта «бестиарная» символика перекочевала и в литературу светскую. Достаточно напомнить о первой песне «Ада» «Божественной комедии», повествующей о блужданиях Данте в «сумрачном лесу». Дантовский «шифр» не был загадкой для современников: под «сумрачным лесом» разумелась греховная жизнь, а звери, препятствующие восхождению на «холм спасения», оказывались воплощением сладострастия (рысь), властолюбивой гордости (лев) и корыстолюбия (волчица) [24 : 294].
Уже первые критики, обратившиеся к ранней поэзии Гумилёва, особо отмечали пристрастие молодого поэта к «бестиарной» образности, причем для большинства из них эта особенность творчества поэта вызывала иронические замечания. Например, в рецензии Л.Н. Войтоловского текст первого издания «Жемчугов» используется для сложных статистических подсчетов. «В общем, по произведенному мною утомительному, но полезному подсчету, на страницах «Жемчугов» г. Гумилёва фигурируют: 6 стай здоровых собак и 2 стаи бешеных, одна стая бешеных волков, несколько волков-одиночек, 4 буйвола, 8 пантер (не считая двух, нарисованных на обложке), 3 слона, 4 кондора, несколько „рыжих тюленей”, 5 барсов, 1 верблюд, 1 носорог, 2 антилопы, лань, фламинго, 10 павлинов, 4 попугая (из них один – антильский), несколько мустангов, медведь с медведицей, дракон, 3 тигра, росомаха и множество мелкой пернатой твари» [39 : 373–374].
В раннем «декадентском» творчестве Гумилёва классические образы мировой истории и культуры с легкостью участвуют в «анималистической» поэтической игре, воскрешающей в памяти произведения Овидия и Апулея. Подобные метаморфозы запечатлены в стихотворениях «Ужас» (1907), «Гиена» (1907), «Варвары» (1908), «Поединок» (1909) «Сон Адама» (1909). Подобный символический сотериологический прием Гумилёв использует и в новелле «Черный Дик». Причем существенно, что главный герой перевоплощается не в животное, а в зверя.
Драматичным и страшным оказывается то, что Гумилёв описывает восприятие людьми поведения Черного Дика как совершенно обыденное и привычное дело. Ужас в том, что грех действует как зараза: «Мы, по обыкновению, сидели в таверне и за стаканом дьявольского джина слушали, грубо и завистливо хохоча, как вчера Черный Дик соблазнил еще одну из наших девушек» [18 : VI : 40]. Толпу не возмущает кошмар желаний Дика: поймать беззащитного ребенка и изнасиловать его. Правда, после гневной проповеди пастора, «попойка возобновилась, и каждый из нас делал усилья, чтобы казаться веселым и буйным по-прежнему. Но огненно-строгие слова пастора еще звенели в ушах, и джин был отравлен томительным и неясным страхом» [18 : VI : 41].
Гумилёв описывает поведение толпы в динамике развития событий: в начале – «Мы все знали, о чем он говорил, и с недоумением поглядывали друг на друга» [18 : VI : 42], затем «…слова Дика и удивили и заинтересовали нас» [18 : VI : 42], а следом – «наши головы шумели и щеки пылали от джина, мы шумно и беспорядочно начали приготовление к охоте» [18 : VI : 43]; «темная бешеная жажда травли с каждым мигом росла в наших угрюмых сердцах и наконец совсем задушила шепоты совести» [18 : VI : 43]. Девочка поймана, а «наше возвращение было торжественно» [18 : VI : 45]. И даже предложение Дика принять участие в «богоугодном деле», т.е. изнасиловать ребенка и всем остальным, толпу не смущает. Неспособность людей к здравому рассуждению здесь очевидна. Когда Дик со своей добычей бежал к своему дому, «мы с хохотом последовали за ним» [18 : VI : 46]. Черный Дик заражает откровенным, гибельным сатанинским восторгом своих соплеменников, которые безропотно подчиняются его злой воле.
Важно и то, что у Гумилёва вся демоническая «чернота», «зверство» Дика откровенно и неприкрыто сводится к необузданной сексуальной агрессии мужского персонажа. Люди в настоящем есть почти звери, и весь вопрос заключается только в том, насколько стеснено в настоящий момент это неизбывное «зверство». Фантастическое у Гумилёва – это безумие самой действительности, в ужасающем мраке которой бродит человек.
Черный Дик изображается Гумилёвым как сильная, агрессивная, воинствующая, в чем-то харизматическая личность. Дик шутовски передразнивает слова пастора, произносит собственную богохульную «проповедь». Он пробуждает силы хаоса и олицетворяет не способного к возрождению человека, не знающего ни откуда он пришел, ни куда он идет, то есть слепо шагающего к краю земли. Смех Дика – сатанинский, профанирующий, мистифицирующий действительность: «А Черный Дик только хохотал да скалил свои белые зубы. Он всегда смеялся» [18 : VI : 40], «Пастор попробовал сопротивляться, но… последовал за нею [женой – Н.З.], провожаемый хохотом и насмешками своего врага»; «Как перепелку, поймаем, – приговаривал Черный Дик, улыбаясь недоброй улыбкой» [18 : VI : 43]. В книге Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» находим: «…а в смехе все злое располагается друг подле друга…» [38 : 206]. Из контекста новеллы понятна критика ницшеанской позиции «морали сильных», агрессивных, воинствующих индивидуалистов.
Подобная интерпретация образа Черного Дика представляется продуктивной, так как известно увлечение Гумилёва сочинением Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», которое было прочитано им в 1903 – 1904 гг. Идеи ницшеанской философии часто звучали в раннем творчестве Гумилёва (см. стихотворения «Песнь Заратустры» (1903), «Людям настоящего», «Людям будущего», «Иногда я бываю печален» (1903 – 1905); «Пещера сна» (1906); «Покорность», «Молитва» (1907), «В пути», «Песня о певце и короле» (1909) и др.). Однако, судя по всему, к моменту создания «Черного Дика» (1908) Гумилёвым была уже произведена «переоценка ценностей» по отношению к философии Ницше.
Образ героя новеллы «Черный Дик» травестирован и направлен против самой идеи о сверхчеловеке. Об этом свидетельствует финал новеллы, воссоздающий превращение вождя толпы в мерзкую тварь: «мы увидели испачканную пасть и острые белые зубы, в которых мы не посмели признать зубы Черного Дика. С безумной смелостью отчаяния мы бросились на него, подняв багры. Она прыгала, увертывалась, обливаясь кровью, злобно ревела <…> Наконец, изуродованная, она свалилась на бок и затихла, и тогда лишь, по обрывкам одежды, могли мы узнать в мертвом чудовище веселого товарища – Черного Дика» [18 : VI : 46]. В новелле воссоздано превращение человека, похожего на волка, в оборотня.
Мотивы оборотничества (превращения человека в зверя) всегда были тесно связаны с образом волка. Волк символизировал зло, пожирающую страсть и ярость. Он являлся ездовым животным ведьм и чернокнижников. В средневековой Европе – волк был символом злобы, хитрости, жадности и ереси. Например, в кельтской мифологии волк проглатывал Небесного Отца (солнце) и наступала ночь [52 : 99].
Гумилёв подробно описывает трансформацию человека в зверя, достигая эффекта «раскадровки», высокой степени кинематографичности, что характеризует его новеллу как произведение ХХ века: «Высокий, красивый, сильный…»; «разъяренный Дик»; «он <…> уже начал дышать тяжело и хрипло»; «глаза Черного Дика были круглы и зловещи по-волчьи» [18 : VI : 39–45]. В погоне за девочкой он и бежит как волк: «Черный Дик несся впереди всех, и видны были только его широкая спина, и худощавые мускулистые ноги, делавшие огромные прыжки» [18 : VI : 46]. Затем – «Дик протяжно завыл и прыгнул»; «нас смутил его страшный, совсем нечеловеческий вой»; «перед ней (девочкой – Н.З.), вцепившись в нее когтистыми лапами, сидела какая-то тварь, большая и волосатая, с глазами, горевшими как угли» [18 : VI : 46].
Уподобляется волчьей стае и толпа, помогающая Черному Дику поймать ребенка: «Подплывая к острову, мы, значительно переглянувшись, понизили голос, гребли бесшумно, но уверенно и придвигали к себе багры и сети. Наконец пристали и осторожно, как волки, идущие на добычу, поднялись наверх и оглянулись» [18 : VI : 43]. Поездка на Большой Остров описывается как «бешеная жажда травли» [18 : VI : 43], начинается охота на человека. Символически охота означает смерть. Охотник со своей сворой волкодавов – это смерть, преследующая свою жертву [31 : 234]. Поэтому судьба девочки предопределена.
Известно, что в начале ХХ века кельтская культура вызывала особенный интерес в странах, принадлежащих некогда к кельтскому миру (Ирландии, Британии, Франции, Германии), а, опосредованно, и в России [24]. Следует отметить, что увлечение древней кельтской культурой отразилось на всех этапах творчества Гумилёва: мотивы «древнесеверной» литературы играют важную роль в стихах «Пути конквистадоров», «Романтических цветов», «Жемчугов» (см. стихотворения «Оссиан» (1903); «На миру» (1908); «Камень» (1908), имеющее подзаголовок «Бретонская легенда», и многие др.), в драматической пьесе «Гондла» (1916), в стихотворения «Лес» (1919), «Дева-Птица» (1921) и др.).
Позже Гумилёв занимался переводом стихотворной пьесы знаменитого ирландского поэта У.Б. Йейтса «Графиня Кэтлин», с которым он был знаком лично и которого, как известно, назвал английским Вячеславом Ивановым. Очевидно внимание Гумилёва и к тому направлению в британской поэзии, для которого был характерен интерес к национальным поэтическим формам и, в частности, к балладе. Но, конечно, ирландское (и шире — кельтское) возрождение интересовало Гумилёва не только в русском контексте. Поэт, несомненно, был увлечен кельтским элементом в европейской литературе, который тот же Йейтс определял как «реалистический натурализм»: «любовь к природе ради нее самой, живое чувство естественной магии, смешанное с меланхолией, настигающей человека, едва он остается с природой один на один…» (цит. по: [46 : 21]).
В период сотрудничества Гумилёва в издательстве «Всемирная литература» (1918 – 1921) им была переведена и опубликована «Поэма о старом моряке» С. Т. Кольриджа (1919) и написано предисловие к сборнику баллад Р. Саути. Этот сборник баллад вышел в свет в 1922 году, уже после смерти Гумилёва. В. Рудинский, анализируя кельтские мотивы в русской литературе, особенно выделяет Гумилёва, который, по выражению исследователя, «имел привычку, – убийственную для обычно малокультурных критиков! – говорить о вещах, которые знал до глубины» (цит. по: [18 : V : 451]).
Говоря о пьесе «Гондла», сам Гумилёв утверждал, что в основание пьесы положен цикл легенд, приводимых Артуа де Жубанвилем в его «Истории кельтской литературы». Он также указывал на то обстоятельство, что легенда, изложенная Жубанвилем, была им значительно переработана и изменена за счет введения параллельных мотивов, имеющих основание в других источниках, прежде всего в книге «Древнесеверные саги и песни скальдов» [18 : V : 454]. Учитывая взаимосвязь новеллы «Черный Дик» и драматической пьесы «Гондла», проявляющуюся на идейно-художественном, тематическом и мотивном уровнях, можно сделать вывод, что при создании этих произведений Гумилёв использовал одни и те же претексты.
В описаниях «кельтского» мира у Гумилёва присутствуют постоянные, повторяющиеся атрибуты: дольмены, черные камни, белоснежные морские кони, пещеры и пр. Причем все они пропитаны резонирующей психической силой. «Кельтский мир» Гумилёва представляет собой некое семантическое ядро, систему мотивов, с большой регулярностью встречающуюся в том или ином виде на протяжении всего его творческого пути и постоянно сопрягающуюся с оккультными, магическими мотивами. В «Черном Дике» «кельтский мир» осмыслен и как мир архаического варварства, противопоставленный миру христианства. Причем мир цивилизации описан как мир эмпирически существующей реальности, а «кельтский» языческий мир – как своеобразный продукт сопряжения реального и эстетического воображения.
Небольшой островок, где обособленно живет девочка, «…действительно служил любимым местом нечистой силы. Глянцевитые черные камни, которые издали можно было счесть за спящих черепах, принимали при нашем приближении вид чудовищных распластанных жаб, и их трещины кривились в неистово хохочущие рожи. Кое-где они были поставлены стоймя и сложены в причудливые фигуры. Мы называли их дольменами и знали, что это постройки древних мохнатых жителей страны, которые никогда не слышали и об Иисусе Христе, но зато ездили на белоснежных морских конях и дружили с демонами морскими, равнинными и горными. Эти древние серые мхи, наверно, видели их, и в лунные ночи часто вспоминают багровое зарево их костров» [18 : VI : 44].
Историческое время в новелле не указано точно. Описанные события, как и в «Принцессе Заре», в «Последнем придворном поэте» и др. новеллах Гумилёва могли происходить как в начале XIX века (под новеллистику этой эпохи стилизуется «Черный Дик»), так и в более позднее время. Художественное пространство новеллы являет собой два локально существующих мира: пространство рыбачьей деревни, где обособленно располагается пустая церковь, и пространство Большого Острова. Топографическое положение рыбачьего поселка возможно определить лишь гипотетически, основываясь на упомянутом в тексте портовом городе Бервич. Скорее всего, это район Шотландии, граничащий с Англией [18 : VI : 347]. Пространство же Большого Острова символико-топологично. Новелла имеет трехчастное деление. В первой части показан мир современный, «неохристианский», во второй – мир архаический (языческий), в третьей – финал взаимодействия, соприкосновения этих двух миров, приводящий к гибели лидеров «двоемирия».
Новелла «Черный Дик» имеет интересное колористическое решение. События в основном разворачиваются в деревушке на фоне превалирующего серого цвета: «день был пасмурный и печальный» [18 : VI : 40], «с утра шел дождь»[ 18 : VI :40], «серые лачужки еще глубже врастали в мокрую землю» [18 : VI : 40], остров «угрюмый и пустынный», «большие серые лужи» [18 : VI : 42], «древние серые мхи» [18 : VI : 44] и т.д. Как известно, цвет имеет экспрессивную и символическую функции. Воссоздавая картины дождливой, ненастной погоды, Гумилёв, во-первых, подчеркивает общий безрадостной фон жизни рыбачьего поселка, а во-вторых, актуализирует ряд символических значений серого цвета [31 : 360]. В контексте новеллы он символизирует траур, депрессию, пепел, унижение, наказание и т.п. Грязь, в которую превращается раскисшая от дождей земля рыбачьего поселка, ассоциируется с примитивным человеком, неспособным к возрождению [31 : 65].
Пространство загадочного мира Большого Острова своей цветовой гаммой контрастно противопоставлено будничному миру и эмоционально, и символически. Единственное яркое пятно на общем унылом, сером, ненастном фоне новеллы – описание спящей девочки на острове, являющее собой живописную картину мира, исполненного красоты и гармонии: «…мы приблизились и увидели под большой скалой, у самого моря, уютно сидящую девочку. Закрытые глаза и ровное дыхание показывали, что она спала. Но она быстро говорила что-то милое и невнятное, а перед ней в воде, пронизанной бледными лучами заходящего в тумане солнца, прыгали и плясали большие серебряные рыбы. В такт ее голоса они то крутились на одном месте, то выскакивали из воды, плескаясь и блестя, как подброшенные шиллинги. Толстый красновато-серый краб щипал пучок нежных белых цветов, который она уронила подле себя. И пена (видимо, белая – Н.З.), подбегая к ее голым ножкам, слегка щекотала ее и заставляла задумчиво улыбаться во сне. Мы молчали, очарованные странной картиной» [18 : VI : 44]. Обращает на себя внимание молчание спящей девочки, заставившее на мгновение замолчать даже озверевшую толпу.
Символически остров имеет амбивалентное значение. С одной стороны, это место изоляции и одиночества, а с другой – безопасное место и убежище от мира хаоса [31 : 232]. Большой Остров, на котором живет девочка, описан как магическое пространство, порождающее огромное количество ассоциаций, связанных не только с творчеством Гумилёва, но и с мифологией кельтского мира. Упоминание о дольменах, черных камнях является знаком присутствия древних темных хтонических сил земли [31 : 77]. (Ср. новеллу «Принцесса Зара»).
Известно также, что культ камня идет от архаических времени и встречается в древних верованиях многих народов. Камень символизирует природную творческую, порождающую мощь, связанную с культом огня, который добывается ударами камня о камень. Поклонение камням было распространено, в частности, в мистериях кельтских друидов: к этому же мифологическому гнезду примыкают бретонские сказания о корриганах, корниканедах, корилах, пульпиканах – сверхъестественных существах, превращающихся в различные материальные формы. В германо-скандинавской мифологии в камни превращались при первых лучах солнца злые ночные духи – карлики-цверги, жившие, подобно червям, в земле и камнях [18 : I : 419].
Дольмены – вход в подземный мир. Они олицетворяют женское чрево и вход в него, ассоциируются с менгиром, т.е. мировой осью и священным местом жертвоприношения, фаллическим столбом, означающим запредельное и возрождение [31 : 77]. Отметим, что на Большом Острове множество пещер, в которые боятся заглядывать люди из рыбачьего поселка. Пещера в кельтской мифологии – способ проникновения в иной мир [31 : 245–246]. Черепаха – непосредственный посредник между небом и землей, символ всего универсума [52 : 530–531]. Жаба – зло, смерть, атрибут дьявольского присутствия [31 : 87].
Представляется, что новелла «Черный Дик» обнаруживает тесную смысловую связь не только с такими очевидными соотносимыми с ней произведениями, как баллада «Сегодня у берега нашего бросил свой якорь» (1906), или стихотворением «Только глянет сквозь утесы Королевский старый форт» (1909), но и, совсем неожиданно, с поэмой «Звездный ужас», написанной в 1920 году. В «Черном Дике» наиболее отчетливо запечатлелась вера Гумилёва в то, что земное находится под знаком грядущего апокалипсиса.
Согласно исследованиям Ханзен-Леве, «осмысленное мистическое молчание» – в рамках мифопоэтического символизма считается состоянием высшей (метафизической) коммуникации [50 : 298]. Эта идея и интертекстуальная семантика мотива молчания (см.: «Silentium» (1862) Ф. Тютчева, «Молчание» (1900) Л. Андреева и др.) дает возможности для интерпретации возникающей в новелле антиномии мира людей и мира Острова. Для мира Дика и толпы девочка просто кажется немой и странной, «не от мира сего», но для самого Острова, который гармонизирует жизненные процессы, она – неотъемлемая часть его мудрой жизни, тонко понимающая и осознающая его реалии. Следует отметить и то, что сон девочки предвещает ее смерть, так как эти состояния традиционно предстают как взаимозаменяемые. (См. стихотворение Ф. Тютчева «Близнецы» (1852), новеллы Э. По «Береника» (1835), «Падение дома Ашеров» (1839) и др.).
В «Черном Дике» реализуется модель мира накануне гибели: цивилизованный мир вносит диссонанс в мир древний, губя «душу» (девочку), а самого себя приводит на край пропасти. Символика противопоставления Гумилёвым мира девственного, «старого» язычества и мира современной цивилизации создает глубочайший философско-религиозный смысл. Если «старое» язычество предуготовляло в лучших своих проявлениях пришествие Христа, то грядущая эпоха «неоязычества» имеет своей целью предуготовление человечества к пришествию Антихриста. Можно предположить, что Гумилёв считал эпоху «старого» язычества привлекательней в своих жизненных проявлениях, нежели грядущее «неоязычество».
Основной конфликт новеллы между церковной моралью и умышленно прямым, вызывающим презрительным ее опровержением в деяниях Черного Дика, носит религиозно-нравственный характер. В соответствии с психологизацией этого мотива, – «черное», «демоническое» начало в рассказе Гумилёва гораздо ближе к аморализму начала века, с искажением многих ценностей и норм поведения, деформацией здравого, традиционного представления о добре и зле, чем к потусторонней жути традиционной «литературы ужасов». Таким образом, хотя эта новелла может показаться одной из наиболее «декадентски-извращенных вещей Гумилёва», ее конечная концептуальная направленность все же оказывается глубоко антидекадентской и (так же как и будущий акмеизм) социально-консервативной. В жанровом отношении «Черный Дик», как и предшествующие новеллы, сопрягают стилизацию (в данном случае под романтическую новеллу в духе Стивенсона) с мифопоэтикой и густым интертекстом и автоинтертекстом, в итоге порождая совершенно новую поэтику XX века.
Содержание:
- Оглавление
- От автора
- Глава I. Проблемы изучения прозы Н. С. Гумилёва
- 1.1. «Странник духа»: жизненный путь Н. С. Гумилёва
- 1.2. История и актуальные проблемы изучения художественной системы Гумилёва
- 1.3. Теоретическое обоснование исследования
- Глава II. «Любовь земная» и «любовь небесная»: мифопоэтика и стилизация в художественном мире новелл Гумилёва
- 2.1. «Радости земной любви»
- 2.2. «Принцесса Зара»
- 2.3. «Золотой рыцарь»
- 2.4. «Дочери Каина»
- Глава III. Тварь и творец: «чужое» слово и «новый» миф в новеллах Гумилёва.
3.1. «Черный Дик» - 3.2. «Лесной дьявол»
- 3.3. «Последний придворный поэт»
- 3.4. «Скрипка Страдивариуса»
- Заключение