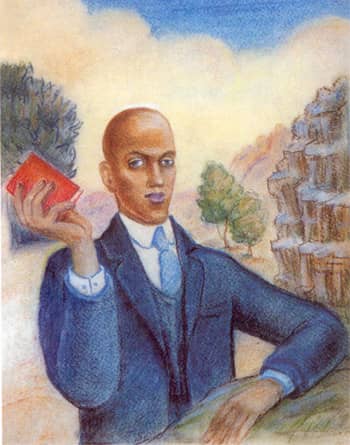О Гумилёве... / О творчестве
Николай Гумилёв — поэт Православия
Часть вторая. Глава третья. Сфинкс без загадки
- Автор:
Юрий Зобнин
- Дата:
1999 год
О Гумилёве…
-
Юрий Зобнин
Вместо предисловия -
Юрий Зобнин
Часть первая. Главы первая-третья -
Юрий Зобнин
Часть вторая. Глава первая. Человек, крестящийся на церкви -
Юрий Зобнин
Часть вторая. Глава вторая. Потомок Адама -
Юрий Зобнин
Часть вторая. Глава четвертая. На грани истории -
Юрий Зобнин
Часть вторая. Глава пятая. Жизнь настоящая
Небольшая статья о Тютчеве занимает важное место в соловьевском наследии - и по актуальности ее положений для последующих символистских трактовок поэзии Тютчева (Брюсовым, Вяч. И. Ивановым и др.), и, главное, потому, что здесь прямо излагается учение Соловьева о «душе мира», которое существенно проясняет онтологию создаваемого тогда же «Оправдания добра» (см.: Зеньковский В. В. История русской философии. В 2 т. Л., 1991. Т. 2. Ч. 1. С. 54).
Основная идея Соловьева - человек качественно однороденсприродой, является частью общего «мирового целого». «...Нет никакой возможности, - утверждает Соловьев, - оставаясь на научной почве, отделить человека... от всего остального мира. Своей телесною организацией, которою обусловлено развитие его внутренней жизни, человек принадлежит к животному царству, а животных никак нельзя выделить из прочей природы и признать их исключительными носителями жизни. На самом деле животное царство неразрывно связано с растительным, имея с ним первоначально общую основу органического бытия, до сих пор еще представленную такими организмами, которых нельзя отнести ни к животным, ни к растениям. А целый органический мир, при всем своем формальном отличии, нераздельно связан, однако, и по составу, и по происхождению, с миром неорганическим. Утверждать безусловную грань между этими двумя мирами так же, в сущности, неосновательно и противно духу науки, как если бы мы признавали безусловную разнородность между твердым скелетом и мягкими тканями человеческого тела. Нет во всей природе, такой пограничной черты, которая делила бы ее на совершенно особенные, не связанные между собой области бытия; повсюду существуют переходные, промежуточные формы, или остатки таких форм, и весь видимый мир не есть собрание деланных вещей, а продолжающее развитие или рост единого живого существа» (Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 110; ср.: Соловьев В. С. Оправдание добра (гл. 9 «Действительность нравственного порядка») // Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 266 - 281). Дальнейшее рассуждение просто: если у человека есть не только тело, но и душа, значит и у природы, нераздельной частью которой человек является, тоже должно быть не только материальное «тело», но и стоящая за ним «душа». «Как телесная видимость человека, сверх анатомических и физиологических фактов, говорит нам еще своими знаками о его внутренней жизни или душе, так точно и явления всей природы, каков бы ни был их механический состав, говорят нам в своей живой действительности о жизни и душе великого мира. <...> Последовательная мысль должна выбирать между двумя положениями: или ни в чем, даже в человеке, даже в нас самих, нет одушевленной жизни, или - она есть во всей природе, различаясь только по степеням и формам» (Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 109 -110). А дальше, следует вывод совсем уже простой: если весь «природный» космос - единое большое существо, качественно подобное человеку, со своей душой, отличной от человеческой только «по степеням и формам», то, значит, «душа мира», так же, как и душа человека открыта навстречу Богу, значит космос тоже «спасается», правда процесс спасения «космической души» несколько не похож на процесс спасения души человеческой.
Определяя характер «спасающейся космической души», Соловьев вводит понятие хаоса. «Хаос, т. е. отрицательная беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы, восстающие против всякого положительного и должного - вот глубочайшая сущность мировой души и основа всего мироздания. Космический процесс вводит эту хаотическую стихию в пределы всеобщего строя, подчиняет ее разумным законам, постепенно воплощая в ней идеальное содержание бытия, давая этой дикой жизни смысл и красоту» (Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 113 - 114; ср.: ср.: Соловьев В. С. Оправдание добра (гл. 11 «Историческое развитие лично-общественного сознания в его главных эпохах») // Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 321 - 322)). Согласно Соловьеву, не надо бояться хаоса, т. е. темных, иррациональных, чувственных страстей. Хаос, коль скоро он есть «мировая душа», можно и нужно спасти, он тоже ценен для Бога. «Жизнь и красота в природе, - пишет Соловьев, - это борьба и торжество света над тьмою, но этим необходимо предполагается, что тьма есть действительная сила. И для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена в торжестве мировой гармонии: достаточно, чтобы светлое начало овладело ею, подчинило ее себе, до известной степени воплотилось в ней, ограничивая, но не упраздняя ее свободу и противоборство» (Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 114). «Спасение» хаоса, т. е. «овладение» им (а не отрицание его), мыслится Соловьевым двояко: в бессознательной части природы Бог «спасает» хаос непосредственным личным действием, а человек, наделенный сознанием и свободой воли, должен спасать хаос своей волей, «овладевая» им как в себе самом, так и во внешнем природном мире: «Как в мировом процессе природы темное начало хаоса преодолевается внешним образом, чтобы произвести светлое мироздание, увенчанное явлением человеческого разума, - так теперь та же самая темная основа, открывшаяся в новой, высшей ступени в жизни и сознании человека, должна быть побеждена внутренним образом в самом человечестве и при его собственном содействии» (Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 115 - 117).
В творчестве Тютчева Соловьев и видит редкое, по мнению Владимира Сергеевича, понимание ценности хаоса. Тютчев не только признает наличие у природы «души», не только недвусмысленно определяет эту «душу» как хаос, но и любит хаос, идет навстречу хаосу, пытаясь им «овладеть» доступными ему поэтическими средствами эстетизации. Тютчев показывает красоту хаоса. «...Сам Гете, - пишет Соловьев, - не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, темный корень мирового бытия, не чувствовал так сильно и не сознавал так ясно ту таинственную основу всякой жизни, - природной и человеческой, - основу на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества. Здесь Тютчев действительно является вполне своеобразным и если не единственным, то наверное, самым сильным во всей поэтической литературе. В этом пункте - ключ ко всей его поэзии, источник ее содержательности и оригинальной прелести» (Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 112). Для подтверждения сказанного тут же приводилось тютчевское стихотворение «День и ночь»:
На мир таинственный духов, Над этой бездной безымянной, Покров наброшен златотканный Высокой волею богов. День - сей блистательный покров - День, земнородных оживленье, Души болящей исцеленье, Друг человеков и богов. Но меркнет день - настала ночь; Пришла - и с мира рокового Ткань благодатную покрова, Сорвав, отбрасывает прочь... И бездна нам обнажена С своими страхами и мглами, И нет преград меж ней и нами - Вот отчего нам ночь страшна!
Отдавая должное мастерству Соловьева - критика, нельзя, конечно, не испытать некоторое сомнение, коль скоро его учение о «спасении хаоса» путем сознательного «овладения» им «просветляющей» человеческой волей мы спроецируем в конкретику нашей повседневной жизнедеятельности. Столкновение с проявлениями природного «хаоса» - как «внешними» (допустим, встреча с диким хищным зверем) или «внутренними» (пробуждение темных инстинктов) вызывают у нормального человека, как правило, сугубо отрицательные эмоции. Сомнения наши еще более укрепляются тем, что у самого Тютчева, вопреки утверждениям Соловьева, мы никак не находим особых восторгов по адресу ощущаемого им повсюду присутствия «хаоса». Так, «ночь» мироздания кажется Федору Ивановичу - «страшной».
О, страшных песен сих не пой Про древний хаос, про родимый! -
заклинает он ночной ветер в другом стихотворении, которое также цитирует Соловьев, а в третьем, опять-таки попавшем в поле зрения Соловьева, сетует:
О, как убийственно мы любим, Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей.
«И это не есть случайность, - комментирует Соловьев тютчевские строки, - а роковая необходимость земной любви, ее предопределение» (Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 116). Иначе как весьма сомнительной сентенцией такой комментарий, конечно, признать нельзя: вовсе не необходимо губить любимых людей. Мы действительно можем погубить доверившегося нам человека, если отдадимся «буйной слепоте страстей» - за это и корит себя Тютчев, но на то у нас и свобода воли, чтобы этой «буйной слепоте» противодействовать.
Нет, все-таки странное что-то присутствует в соловьевской трактовке Тютчева!
Однако, символисты - «соловьевцы» никаких противоречий здесь не замечали. «Тютчевский вопрос» в эстетических манифестах символизма подавался именно как вопрос об оправдании хаоса - «души природы», ценной для «судьбы человеческой души и всей истории человечества». Статья Соловьева, как уже говорилось выше, «в каком-то смысле... явилась этапной в интерпретации поэзии Тютчева и оказала большое влияние на ранних символистов, причислявших великого лирика к своим предшественникам» (Цимбаев Н. И.. Фатющенко В. И. Владимир Соловьев - критик и публицист // Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 27).
Иначе и быть не могло: соловьевская трактовка тютчевского творчества давала замечательную возможность для обоснования провиденциальной миссии «нового искусства», превращая Тютчева в идеальный образ поэта - теурга. Этот богословский термин был перетолкован Соловьевым в «Философских началах цельного знания» (1877), став обозначением художника, в деятельности которого «мистика во внутреннем соединении с остальными степенями творчества, именно с изящным искусством и с техническим художеством образует одно органическое целое, единство которого, как и единство всякого организма, состоит в общей цели... Цель здесь мистическая - общение с высшим миром путем внутренней творческой деятельности. Этой цели служат не только прямые средства мистического характера, но также и истинное искусство и истинная техника (тем более что источник у всех трех один - вдохновение)» (Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 174).
Смысл деятельности художников-теургов и причины, вызвавшие настоятельную потребность в их появлении, раскрываются Соловьевым в работе, посвященной Достоевскому (который, так же, как и Тютчев, с легкой руки Владимира Сергеевича, стал «предшественником символизма»). Искусство, по мнению Соловьева, должно сыграть важную роль в деле качественного обновлениямира, в превращении его в «земной рай» («свободную теократию»). «Для этого, - пишет Соловьев, - нужно быть причастным и близким земле, нужна любовь и сострадание к ней, но нужно еще и нечто большее. Для могучего действия на землю, чтобы повернуть и пересоздать ее, нужно привлечь и приложить к земле неземные силы. Искусство, обособившееся, отделившееся от религии, должно вступить с нею в новую, свободную связь. Художники и поэты должны опять стать жрецами и пророками, но уже в другом, еще более важном и возвышенном смысле (нежели первобытные поэты - жрецы. Ю. З.): не только религиозная идея будет владеть ими, но и они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земными воплощениями. Искусство будущего, которое само после долгих испытаний вернется к религии, будет совсем не то первобытное искусство, которое выделилось из религии» (Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 293). Исключительный характер «нового религиозного творчества» объясняется, по мнению Соловьева, тем, что те «неземные силы», которые будут привлекать «теурги» для «обновления земли», не имеют никакой связи с мистикой Церкви. «Истинное христианство, - пишет Соловьев, - не может быть только домашним, как и только храмовым, - оно должно быть вселенским, оно должно распространяться на все человечество и на все дела человеческие. И если Христос есть действительное воплощение истины, то Он не должен оставаться только храмовым изображением или же только личным идеалом: мы должны признать Его, как живое основание и краеугольный камень всечеловеческой Церкви» (Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 303). Здесь же Соловьев со всей категоричностью заявляет, что эта «всечеловеческаяЦерковь» - не Православная Церковь, и даже не церкви, отколовшиеся от Православия. Это - нечто принципиально новое: «Христианства вселенского еще нет в действительности, оно есть только задача, и какая огромная, превышающая, по-видимому, силы человеческие». Поэтому «теурги», занятые решением этой «нечеловеческой задачи», должны искать новые источники мистических контактов и обретать новые откровения - «старые» молитвы, обряды и писания для получения «нового мистического знания», которое должно «повернуть и пересоздать землю», не годятся.
Обращение к «мировой душе», или, говоря проще - культ хаоса, который, по мысли Соловьева и «соловьевцев» присутствует в творчестве Тютчева, был одной из самых доступных и очевидных форм «нетрадиционного», «внецерковного» мистического познания. «Теургизм» в том конкретном воплощении, какую являет нам практика русских символистов (особенно - т.н. «младосимволистов», идеологом которых был Вяч. И. Иванов), стал попыткой воскрешения пантеистической мистики древних языческих культов, прежде всего - «хтонической» мистики греков, «дионисийства».
Вяч. И. Иванов разрабатывал учение о двойственном характере божественного промысла, по разному раскрывающегося в отношениях Бога с «миром» (природой) и человеком. Хаос, понимаемый Ивановым как «мировая душа», находится в особо тесных отношениях с Творцом. Бог «спасает» природу «лично», прямым действием «просветляющим» темное движение материи (см. выше), тогда как человек спасается, большей частью, «сам», своей разумной волей, лишь косвенно поддерживаемой Словом и (реже) волей Бога. Поэтому, согласно ивановской терминологии, «душе мира», т. е. бессознательному хаосу, Бог является в виде Диониса, языческого божества оргийного, очищающего экстаза, тогда как в душе человека Бог открывается в виде кроткого Христа, Бога-Слова, обращенного, прежде всего, к разуму.
Коль скоро «душа мира» насыщена непосредственным присутствием Божества, очень велик соблазн рассматривать приобщение к «природе» как непосредственное приобщение к «живому Богу». Путем «нисхождения к хаосу» достигается, по мнению Вяч. И. Иванова «приобщение к единству «я» вселенского в его волении и страдании, полноте и разрыве, дыхании и воздыхании.., потери себя в хаосе и нового обретения себя в Боге» (Иванов Вяч. И. Ницше и Дионис // Иванов Вяч. И. По звездам. СПб., 1909. С. 9). Отсюда следует, что «высшая мудрость», которую могут обрести и донести до людей только «избранные», поэты - теурги, заключается в соединении истины Диониса с истиной Христа в «цельное знание», которое и позволит преобразовать мироздание в «земной рай». «Для наших земных перспектив, - замечал Вяч. И. Иванов, - нисхождение есть поглощение частного общим. Нужен и свят первый миг дионисийских очищений: соединение с низшим, глубинным богом, говорящим «да» природе, как она есть. Все нужно принять в себя, как оно есть в великом целом, и весь мир заключит в сердце. Источник всей силы и всей жизни это временное освобождение от себя и раскрытие души живым струям, бьющим из самых недр мира. Только тогда человек, утративший свою личную волю и себя потерявший, находит свое предвечное истинное воление, и делается страдальческим орудием живущего в нем бога, - его носитель, тирсоносец, богоносец» (Иванов Вяч. И. Ницше и Дионис // Иванов Вяч. И. По звездам. СПб., 1909. С. 32).
Разумеется, принятие в себя «всего, как оно есть в великом целом» природы, т. е., в том числе - всего зверства, всей слепой похоти природных инстинктов, однозначно выводит «теурга» не только за ограду Православной Церкви, но и ставит его вне «традиционного» христианства вообще. Однако, обретенные в «оргийном экстазе» «новые истины» «Диониса - Христа» позволят создать, по возвращении из «нисхождения» «обновленную догматику» «новой Церкви», будущего «вселенского христианства», каковая уже сейчас и создается русскими символистами - носителями «нового религиозного сознания» в творимой ими «неомифологии», синтезирующей языческую и христианскую образность. В конце этого процесса, волей «теургов», полностью овладевших подлинными «глаголами вечной жизни», земля преобразится в «новый рай», в мистическом средоточии которого будет объединившийся со Христом Дионис. «Тогда встретится наш художник и наш народ, - пророчествует Иванов. - Страна покроется орхестрами и фимелами, где будет плясать хоровод, где в действе трагедии или комедии, народного дифирамба и народной мистерии воскреснет истинное мифотворчество (ибо истинное мифотворчество - соборно), - где самая свобода найдет очаги своего безусловного, беспримесного, непосредственного самоутверждения (ибо хоры будут подлинным выражением и голосом народной воли). Тогда художник окажется впервые только художником, ремесленником веселого ремесла, - исполнитель творческих заказов общины, - рукою и устами знающей свою красоту толпы, вещим медиумом народа художника» ( Иванов Вяч. И. О веселом ремесле и умном веселии // Иванов Вяч. И. По звездам. СПб., 1909. С. 246; см. также: Иваск Ю. Рай Вячеслава Иванова // Зап. Ф-та лит-ры и философии Павийского университета. Том 45. Культура и память. Третий международный симпозиум, посвященный Вячеславу Иванову. Доклады на русском языке. Firenze, 1988. С. 53 - 56).
Именно это грядущее торжество человечества во «Христе-Дионисе» и нашло своего первого «пророка» в «певце Хаоса», «тайновидце Мировой души» и «мифотворце» - Тютчеве. «Все, что говорит Тютчев, - писал Вяч. И. Иванов, - он возвещает как гиерофант сокровенной реальности. Тоска ночного ветра и просонье шевелящегося хаоса, глухонемой язык тусклых зарниц и голоса разыгравшихся при луне валов; таинства дневного сознания и сознания сонного; в ночи бестелесный мир, роящийся слышно, но незримо, и живая колесница мирозданья, открыто катящаяся в святилище небес; в естестве, готовом откликнуться на родственный голос человека, всеприсутствие живой души и живой музыки; на перепутьях родной земли исходивший ее в рабском виде под ношею креста Царь Небесный - все это для поэта провозглашения объективных правд, все это уже миф» (Иванов Вяч. И. Две стихии в современном символизме // Иванов Вяч. И. По звездам. СПб., 1909. С. 283).
II
Гумилев не просто любил Тютчева: его отношение к творчеству поэта напоминало некий род фанатического поклонения. Это засвидетельствовал один из потомков Федора Ивановича, знавший Гумилева в молодые годы: «...В дни моей собственной юности я как-то встретил вечно бродившего по полям, лугам и рощам нашего соседа по имению, будущего поэта Николая Гумилева. В руках у него, как всегда, был томик Тютчева. «Коля, чего Вы таскаете эту книгу? Ведь Вы и так знаете ее наизусть?». «Милый друг, - растягивая слова ответил он, - а если я вдруг забуду и не дай Бог искажу его слова, это же будет святотатство» (В. В. Тютчев. Вступительная статья к сборнику Ф. И. Тютчева «Избранные стихотворения». Нью-Йорк, 1952. С. V I I I. Курсив автора). Сцена, конечно, достаточно курьезная, но для «ученика символистов» вполне закономерная. Природа - вместилище «мировой души» и приобщаясь к ее таинственной жизни, странствуя «по лесам и полям», можно услышать некие «голоса», научающие истинам, которые неведомы «историческим религиям». А понять «язык природы» как раз и помогает чтение великого «гиерофанта сокровенной реальности» Федора Ивановича Тютчева, произведения которого лучше иметь под рукой, дабы в миг пантеистического экстаза не позабыть невзначай «священные строки»... Об этих наивных и ярких полудетских «таинственных» переживаниях рассказывается в «Осени» - самом «пантеистическом» из всех ранних «натурфилософских» стихотворений Гумилева:
По узкой тропинке Я шел, упоенный мечтою своей, И в каждой былинке Горело сияние чьих-то очей. Сплеталися травы, И медленно пели и млели цветы, Дыханьем отравы Зеленой, осенней светло залиты. И в счастье обмана Последних холодных и властных лучей Звенел хохот Пана И слышался говор нездешних речей.
Образ мистика-пантеиста весьма распространен в первых трех гумилевских стихотворных книгах - достаточно вспомнить фантастическую фигуру императора Каракаллы, мечтателя и тайновидца, отвергающего славу и наслаждения во имя уединенной ночной «беседы с Фебом» (в действительности - помешанного изверга и кровосмесителя, убитого преторианцами в 217 г.; впрочем, он и в самом деле был знаком с магией - см.: Basker M. «Stixi iz snov»: art, magic and dream in Gumilev’s Romanticeskie cvety // Nikolaj Gumilev. 1886-1986. Berkeley, 1987. P. 40):
Словно прихотливые камеи - Тихие, пустынные сады, С темных пальм в траву свисают змеи, Зреют небывалые плоды. Беспокоен смутный сон растений, Плавают туманы, точно сны, В них ночные бабочки, как тени, С крыльями жемчужной белизны. Тайное свершается в природе: Молода, светла и влюблена, Легкой поступью к тебе нисходит, В облако закутавшись, луна. Да, от лунных песен ночью летней Неземная в этом мире тишь, Но еще страшнее и запретней Ты в ответ слова ей говоришь.
«Тайновидцами» природы становятся у Гумилева «капитаны» - Гонзальво и Кук, Лаперуз и де Гама, мечтатель и царь генуэзец Колумб, Ганнон Карфагенянин, князь Сенегамбий, Синдбад-мореход и могучий Уллис, - «паладины зеленого храма», которые в своих странствиях созерцают «глубину» мироздания, «рождающую наркозы» («Вы все, паладины зеленого храма...»). Язык зверей понимает «заклинатель ветров и туманов» - пленный вождь варваров («Игры»). «Тайны древнего обряда» совершает «дева-жрица», героиня «Озера Чад»:
На таинственном озере Чад Повисают, как змеи, лианы, Разъяренные звери кричат И блуждают седые туманы. По лесистым его берегам И в горах, у зеленых подножий, Поклоняются странным богам Девы-жрицы с эбеновой кожей.
Природа у раннего Гумилева, прежде всего - таинственна. Это - «странные», экзотические пейзажи, преимущественно ночные или вечерние, реже - утренние, но никак не дневные, пейзажи лесные и морские или же картины далеких восточных садов, пейзажи, которые нередко служат для образования антропоморфной метафоры, что по самому способу организации данного тропа предполагает неизбежное «одушевление» изображаемого:
Сады моей души всегда узорны, В них ветры так свежи и тиховейны, В них золотой песок и мрамор черный, Глубокие, прозрачные бассейны. Растенья в них, как сны, необычайны, Как воды утром, розовеют птицы, И - кто поймет намек старинной тайны? - В них девушка в венке великой жрицы.
(«Сады души»)
Еще ослепительны зори, И перья багряны у птиц, И много есть в девичьем взоре Еще не прочтенных страниц. И лилии строги и пышны, Прохладно дыханье морей, И звонкими веснами слышны Вечерние отклики фей.
(«Renvoi»)
Я счастье разбил с торжеством святотатца, И нет ни тоски, ни укора, Но каждою ночью так ясно мне снятся Большие ночные озера. На траурно-черных волнах ненюфары, Как думы мои, молчаливы, И будят забытые, грустные чары Серебряно-белые ивы.
(«Озера»)
Важно отметить, что и в этих, и во многих других ранних стихотворениях Гумилева переживание близости с природой обладает пантеистическим пафосом, вполне согласным с «теургическим» пафосом «младосимволизма». Речь идет об откровении истин, дополняющих «традиционную» метафизику христианства и, в соединении с ней, дающих некое качественно новое знание о мировой «тайне». Так, например попытка синтеза пантеистической мистики с христианской эсхатологией вызвала к жизни «Осеннюю песню» - одну из самых значительных поэм первых лет творчества Гумилева: тайна «страстного сгоранья» природы, каким предстает под пером Гумилева осеннее увядание леса, позволяет «по-новому» взглянуть на тайну конца мироздания, которое должно преобразиться в огне Второго Пришествия:
Да, много, много было снов И струн восторженно звенящих Среди таинственных лесов, В их голубых, веселых чащах. Теперь открылися миры Жене божественно-надменной, Взамен угаснувшей сестры Она узнала сон вселенной. И, в солнца ткань облечена, Она великая святыня, Она не бледная жена, Но венценосная богиня. В эфире радостном блестя, Катятся волны мировые, А в храме Белое Дитя Творит святую литургию. И Белый Всадник кинул клич, Скача порывисто-безумно, Что миг настал, великий миг, Восторг предмирный и бездумный. Уж звон копыт затих вдали, Но вечно радостно мгновенье! ... И нет дриады, сна земли, Пред ярким часом пробужденья.
Источник мистической образности «Осенней песни» ясен: «венценосная богиня», «облеченная в ткань солнца» - «жена, облеченная в солнце» (Откр 12, 1), Белое Дитя, творящее «святую литургию», равно как и Белый Всадник - Бог Сын, Агнец, Слово Божие (Откр 19, 11-13). «Спящая» к косном греховном сне «земля» «сгорает» в огне светопреставленья и пробуждается. Конечно, обращение с библейской символикой в «Осенней песне» весьма вольное - чего стоит описание «шествия жениха к невесте-земле», несомненно восходящее к Откровению (Откр 22, 17), и представленное в поэме как пришествие некоего «осеннего огня», пожирающего тело земли-«дриады», - но ведь речь как раз и идет о принципиальной «новизне» религиозного сознания, обогащенного опытом непосредственного проникновения в тайны «души мира», отличные от тайн, доступных человеческой душе...
Насколько органично юный Гумилев чувствовал себя в роли мистика-пантеиста?
Уже помянутое стихотворение «Осень» кончается странным лирическим признанием:
Я знаю измену, Сегодня я Пана ликующий брат. А завтра одену Из снежных цветов прихотливый наряд. И грусть ледяная Расскажет утихшим волненьем в крови О счастье без рая, Глазах без улыбки и снах без любви.
Можно, конечно, предположить, что этим Николай Степанович хотел донести до читателя тот нехитрый факт, что вслед за осенью наступает зима, то бишь «грусть ледяная». А можно и заподозрить здесь нечто большее - скажем, признание в том, что в «стихийном мире» лирическому герою как-то неуютно... Опять-таки, как и всегда у раннего Гумилева, позиция автора даже самых «декадентских» стихов - крайне двойственна. В «Озерах», например, «ночной мир» (вспомним, опять-таки, Тютчева) оказывается, в конце концов, «далеким и чуждым» лирическому герою:
Проснусь, и как прежде уверенны губы, Далеко и чуждо ночное, И так по-земному прекрасны и грубы Минуты труда и покоя.
Отношения Гумилева к «теургической» пантеистической мистике символистов очень точно повторяют в развитии «общую схему» его творческого пути: от принятия символизма, хотя и с оговорками, в раннем творчестве, в 1905 - 1908 гг., через «преодоление», «изживание» в годы «акмеистического бунта» - до полного разрыва и резкой критики в позднем творчестве, в 1917-1921 гг. В качестве иллюстрации к сказанному, уместно обратиться к истории создания «Свидания» (1909) - шедевра ранней гумилевской лирики (на роль прототипа лирической героини исследователи прочат здесь сразу двух «претенденток» - Н. С. Войтинскую и Л. Е. Аренс, и, похоже, что правы все - стихотворение, как это иногда случалось у Николая Степановича, обращено и к той, и к другой одновременно). Это стихотворение замечательно еще и тем, что у него - три разных завершения в вариантах 1909, 1910 и, наконец, 1918 гг. По тому, как менялся ход мысли поэта мы достаточно наглядно можем судить о эволюции его отношения к пантеистической мистике.
В самом раннем варианте, Гумилев, еще не изживший обаяние символизма, мыслит вполне в «теургическом» ключе: любовь возбуждает чувственное томление, в душе начинает «хаос шевелиться» - значит, нужно ожидать некоего «прозрения» в трансцедентальние глубины мироздания:
Сегодня ты придешь ко мне, Сегодня я пойму, Зачем так странно при луне Остаться одному. Ты остановишься, бледна, И тихо сбросишь плащ. Не так ли полная луна Встает из темных чащ? И, околдованный луной, Окованный тобой, Я буду счастлив тишиной, И мраком, и судьбой. Так зверь безрадостных лесов, Почуявший весну, Внимает шороху часов И смотрит на луну, И тихо крадется в овраг Будить ночные сны, И согласует легкий шаг С движением луны. Как он, и я хочу молчать, Смотреть и изнемочь, Храня торжественно печать, Твою печать, о Ночь! И будет много светлых лун Во мне и вкруг меня, И бледный берег древних дюн Откроется, маня. И принесет из темноты Зеленый океан Кораллы, жемчуг и цветы, Дары далеких стран. И вздохи тысячи существ, Исчезнувших давно, И темный сон немых веществ, И звездное вино. И вдруг, простершейся в пыли, Душе откроет твердь Раздумья вещие земли, Рождение и смерть. ....Уйдешь, и буду я внимать Последней песне лун, Смотреть, как день встает опять Над гладью бледных дюн.
Этот текст был опубликован в № 9 «Журнала Театра литературно-художественного общества» за 1909 г. (см.: Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений. В 10 т. М., 1998. Т. 1. С. 244-245, 319). Годом позже, в издании «Жемчугов» это стихотворение появилось без предпоследней строфы. Для мировосприятия Гумилева образца 1910 года образ «тверди», т. е. космической плоти, шепчущей лирическому герою, находящемуся в состоянии экстаза о «раздумьях вещих земли, рождении и смерти» был уже недопустим. А в окончательном варианте, в переиздании «Жемчугов» 1918 года, исчезает картина и самого экстатического состояния. Стихотворение получает принципиально иное завершение:
Как он и я хочу молчать, Тоскуя и любя, С тревогой древнею встречать Мою луну, тебя. Проходит миг, ты не со мной, И снова день и мрак, Но, обожженная луной, Душа хранит твой знак. Соединяющий тела Их разлучает вновь, Но, как луна, всегда светла Полночная любовь.
Ни о какой «пантеистической епифании» речи нет: лирический герой вспоминает о мгновенной встрече, со светлой печалью замечая, что все - в том числе и судьбы влюбленных - в руках Божиих, ибо «Что Бог сочетал, того человек да не разлучит» (Мф 19, 6).
В творчестве Гумилева, с начала 1910-х годов природа перестает выступать в качестве «таинственного хаоса». Тютчевская «ночная» сторона мира исчезает, пейзажи рисуются исключительно в «дневном», ясном и благостном виде, приближающем ее к невинному, «райскому» состоянию:
В моей стране спокойная река, В полях и рощах много сладкой снеди, Там аист ловит змей у тростника, И в полдень, пьяны запахом камеди, Кувыркаются рыжие медведи. И в юном мире юноша Адам, Я улыбаюсь птицам и плодам, И знаю я, что вечером, играя, Пройдет Христос-младенец по водам, Блеснет сиянье розового рая.
(«Баллада», 1910)
Закат. Как змеи, волны гнутся, Уже без гневных гребешков, Но не бегут они коснуться Непобедимых берегов. И только издали добредший Бурун, поверивший во мглу, Внесется, буйный сумасшедший, На глянцевитую скалу И лопнет с гиканьем и ревом, Подбросив к небу пенный клок... Но весел в море бирюзовом С латинским парусом челнок; И загорелый кормчий ловок, Дыша волной растущей мглы И, от натянутых веревок, Бодрящим запахом смолы.
(«На море», 1912).
Соприкосновение с хаотической стихией выступает теперь в творчестве Гумилева исключительно как болезненное проявление в человеческом бытии, не несущее притом никакой новой, «трансцедентальной» информации. Хаос метафизически пуст; за его внешними движениями нет никакой «души». Яркая картина этой «метафизической пустоты» природной «плоти» нарисована Гумилевым в стихотворении «Больной» (1915):
В моем бреду одна меня томит Каких-то острых линий бесконечность, И непрерывно колокол звенит, Как бой часов отзванивал бы вечность. Мне кажется, что после смерти так С мучительной надеждой воскресенья Глаза вперяются в окрестный мрак, Ища давно знакомые виденья. Но в океане первозданной мглы Нет голосов, и нет травы зеленой, А только кубы, ромбы да углы, Да злые, нескончаемые звоны.
За хаотической «пластикой» природы - нечто, сродное адской, «безбожной» пустоте: сама по себе природа не содержит ничего, напоминавшее бы «давно знакомые виденья» душевного человеческого бытия. Поэтому, следует как можно скорее стряхнуть болезненное наваждение хаоса:
О, хоть бы сон настиг меня скорей! Уйти бы, как на праздник примиренья, На желтые пески седых морей Считать большие бурые каменья.
В 1919 году Гумилев пишет стихотворение «Естество», которое начинается со стихов, содержащих образность, открыто противостоящую тютчевской картине «золототканного дневного покрывала», наброшенного на «ночную бездну» мироздания, скрывающего от человеческих глаз «душу природы»:
Я не печалюсь, что с природы Покров, ее скрывавший, снят, Что древний лес, седые воды Не кроют фавнов и наяд. Не человеческою речью Гудят пустынные ветра, И не усталость человечью Нам возвещают вечера.
«Золототканный покров» отброшен, но «души мира», «души природы» под ним нет. Нет никакой «мировой бездны», нет никаких «природных духов». Природная «плоть» исчерпывается внешними чувственными пульсациями. Душа есть только у человека, который не тождествен природе, не является ее «частью» - и это утверждение полностью перечеркивает все построения «соловьевцев»-младосимволистов.
Но значило ли это, что Гумилев, «преодолевая символизм», «преодолел» также и Тютчева, изжил его влияние в своем творчестве? - Однако, С. К. Эрлих рассказывая о последних годах Гумилева, вспоминала: «Из поэтов чаще всего упоминал, кроме Пушкина, Иннокентия Анненского и Тютчева» (Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 189). Это значит, что «верность» тютчевской поэзии Гумилев проносит через всю жизнь, и, главное, находит возможным обращаться к ней за подтверждением положений акмеистической эстетики (о том, что значили для акмеистов Пушкин и Анненский напоминать излишне).
Гумилев «преодолевает» в своем творчестве одностороннюю и неадекватную действительному положению вещей интерпретацию тютчевской натурфилософии, которую предложил впервые Соловьев и развили «младосимволисты». Но Гумилев вовсе не отказывался от того, что Тютчев действительно говорил в своем творчестве о некоей метафизической «тайне», связанной с хаотическим началом мироздания.«Язык природы действительно мудр, но совсем не прост, по крайней мере для человеческого чувства, и наше ощущение от мира никак не может уложиться в понятие красоты, - писал Гумилев в 1914 году. - Чтобы синтезировать таким образом, нужны слова тютчевские, громоподобные, синей молнией пронзающие душу...» (Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 184). Очевидно, что намек на имеющуюся в глубине природной «первозданной мглы» «душу мира», для Гумилева в 1914 году не мог служить источником «мудрости языка природы» - ни в какие «мировые души» он к этому времени уже, как мы уже убедились, не верил. Но что же тогда имеется в природе, какая настоящая «тайна» скрывается здесь? И о каком «синтезе» «бездушной» природы с человеческой «душой», отраженном в тютчевских «громоподобных» словах, идет речь?
На наш взгляд, отправной точкой для размышлений на этот счет может служить четверостишие 1869 года, в какой-то мере являющееся итогом всех «натурфилософских» размышлений Тютчева:
Природа - сфинкс. И тем она верней Своим искусом губит человека, Что, может статься, никакой от века Загадки нет и не было у ней.
Естественно, что символисты - «соловьевцы» это четверостишие обходили, по возможности, деликатной «фигурой умолчания» (в статье самого Владимира Сергеевича оно также не упомянуто) или трактовали его как доказательство «упадка духа», пережитого великим поэтом на исходе дней. «Никакой загадки, ни Божеской, ни дьявольской, - восклицал Мережковский. - Все ясно, все просто, все плоско. Глухая тьма, глухая стена, о которую можно только разбить себе голову. И в природе, так же как в людях, - «насилье безмерной пошлости». Весь мир - даже не дьяволов, а ничей водевиль - пустышка, гнилой орех или гриб-дождевик, который, если проткнуть его, рассыпается черной пылью. Нечего стремиться к хаосу: мир уже хаос; нечего жаждать смерти: жизнь уже смерть. Кажется, от этого последнего вывода Тютчев отшатнулся в ужасе и ухватился за христианство как утопающий за соломинку. «Надо преклониться перед безумием креста или все отрицать», - сказал он однажды в беседе с приятелем. О своем неверующем веке говорит, как врач о больном:
Безверием палим и иссушен, Невыносимое он днесь выносит... И сознает свою погибель он, И жаждет веры, но о ней не просит.
Но у кого просить, если природа - сфинкс без загадки?<...> Бедный Тютчев! Бедные мы! Он только рассказал то, что происходит во многих из нас» (Мережковский Д. С. Две тайны русской поэзии // Мережковский Д. С. В тихом омуте. М., 1991. С. 465-466).
Символистов и вправду можно пожалеть: бедные! Если природа, тот самый «хаос», пробуждаемый ими в себе - «пустышка, гнилой орех или гриб-дождевик, который, если проткнуть его, рассыпается черной пылью», «сфинкс без загадки», то перед «новыми теургами» - большие и неразрешимые проблемы: ни о какой «новой истине», полученной в «экстатическом трансе» тогда всерьез говорить не приходится.
А вот что касается «бедности» Тютчева...
В заключении Мережковского обращают на себя внимание две сентенции, столь же странные, как приведенная нами ранее сентенция Соловьева о непременной «гибели», которую, якобы, несет с собой любовь. «У кого просить веры, если природа - сфинкс без загадки?» - риторически вопрошает Дмитрий Сергеевич. Именно в устах Мережковского риторика этого вопрошения более чем странная: как у кого - у Бога, конечно! Сам Мережковский неоднократно об этом и писал, но тут, в пантеистическом азарте (символист, все-таки!), вероятно, позабыл. А между тем обращение к Богу с мольбой о даровании веры - «Верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк 9, 24) - гораздо естественнее, нежели обращение за тем же к «мировой бездне».
Мережковский пишет: «Тютчев... ухватился за христианство как утопающий за соломинку».
Ничего себе «соломинка»!
Теургические «эксперименты» Вяч. И. Иванова Мережковский мог в минуту дурного расположения духа обозвать «мистическим хулиганством» (см.: Мережковский Д. С. Балаган и трагедия // Мережковский Д. С. Акрополь. М., 1991. С. 252-259). Русскую Церковь Дмитрий Сергеевич, конечно, так не ругал никогда, но - иногда ворчал и на нее. Но - христианство! А за что, интересно, «цеплялся» сам Мережковский в самые трудные минуты жизни? Не за «мистический же анархизм»? И ведь - выносила «соломинка»!
Что же касается Тютчева, то современная православная мысль именно так трактует специфику его «натурфилософии» - переживание «пустоты» природы как побудительный толчок к вере в Бога (а не в «хаос»). «Человеку, посмевшему лицом к лицу противостать этому ужасу безграничности окружающей <природы>, опорою может стать единственно ощущение и сознание непосредственной связи с Творцом - и горе тому, кто в небрежении утрачивает такую связь. Тютчев несомненно стремился утвердить в душе своей такую опору - даже при мысли об ужасе конца земного бытия:
Когда пробьет последний час природы, Состав частей разрушится земных: Все зримое опять покроют воды, И Божий лик изобразится в них!
<...> Говоря о языке природы, Тютчев скорее разумеет ее способность свидетельствовать о Божием деянии, он несомненно видит в природе отсвет Божией славы. Собственно, способность слышать голос природы есть свойство христианского средневекового мировосприятия, когда в каждом проявлении тварного мира человек стремился и был способен сознавать символическое проявление Божественной премудрости... Как бы ни воспринимать те или иные образы поэзии Тютчева - основной вектор стремления его души обозначен был вполне определенно. <...> Взор Тютчева... в глубину природы несомненно направлен с тем, чтобы узреть Творца в Его творении» (Дунаев М. М. Православие и русская литература. М., 1997. Т. 2. С. 377-380).
Но именно такой взгляд на «метафизическую» ценность «натурфилософских» переживаний характерен и для «акмеиста» Гумилева.
III
Православие всячески подчеркивает иерархическую подчиненность природы человеку, ее вспомогательную роль, которая уготована ей Творцом, обустраивавшим обиталище для Своего Главного творения, которое создается в последний, Шестой День (Быт 1, 26-27). «Почему же, скажешь, он (человек) создан после, если превосходнее всех этих тварей? - писал Иоанн Златоуст. - По справедливой причине. Когда царь намеревается вступить в город, то нужно оруженосцам и всем прочим идти вперед, чтобы царю войти в чертоги уже по приготовлению их: так точно и теперь Бог, намереваясь поставить как бы царя и владыку над всем земным, сперва устроил все это украшение, а потом уже создал и владыку (человека)» (см.: Иеромонах Серафим (Роуз). Православное святоотеческое понимание Книги Бытия. М., 1998. С. 57).
История сотворения мира рассматривается православным богословием как история любовного самоумаления Бога, организация нейтральной среды, необходимой для создания свободного человека. «Бесконечный Бог умаляет Себя, свободно освобождает от Своего всецелого присутствия некую толику бытия - и там возникает ничто. В этом ничто Бог творит мир людей. Отныне, по слову Владимира Лосского, Бог становится нищим, который стучит в двери нашей души, но никогда не решается взломать их, чтобы без нашего согласия войти внутрь наших сердец. Этот-то образ Божественной любви и определяется в христианской мысли как кеносис - самоумаление, самоистощение Божества» (Диакон Андрей Кураев. Христианская философия и пантеизм. М., 1997. С. 133-134). Шесть Дней Творения, завершающиеся созданием человека - шесть этапов кеносиса, свободного Самоотчуждения Бога от выделенного Им в Себе «мира», который должен стать «домом» для человека, шесть этапов «ухода» из этого мира. Каждый новый День Творения несет, в конечном счете, уменьшение «доли» непосредственного присутствия Бога в созидаемом мире за счет добровольно налагаемых Им на Себя ограничений. Вечность ограничивается временем, бесконечность - пространством, свободное произволение - физическими законами, устанавливающими «собраться воде... в собрание едино» (Быт 1, 9), земле «прорастить зелие травное, сеющее семя по роду и подобию, и древо плодовитое, творящее плод» (Быт 1, 11), светилам «освещати землю и разлучати между днем и ночью» и быть «в знаменье во времена, и во дни и в лета» (Быт 1, 14). Вода и земля, повинуясь воле Творца изводят из себя материальные формы жизни, чувственные и неразумные, противоположные Совершенному Бытию - гадов, птиц, зверей, - которым даруется способность к воспроизводству (Быт 1, 20-25). И только «истощив» Свое присутствие в «мире» до того предела, который делал возможным самодостаточное «автономное» существование мироздания вне непосредственного Божественного попечения, Господь приступает к сотворению человека: «дом» готов, можно приступать к «передаче прав собственности». С этого момента присутствие Бога в мире происходит в таких «самоограничительных» формах («энергиях», если использовать терминологию св. Григория Паламы), которые не нарушают свободу человека, а, значит, человек может влюбой момент уклониться от общения с Богом, «запереться» во своем материальном, временном и пространственном доме и даже «не отвечать на звонки». Но, с другой стороны, подобный стиль общения не предполагает лицемерия: благодарность и любовь человека к Творцу не вызываются непосредственным принуждением, а являются проявлением благородных свойств человеческой личности, сознающей величие и бескорыстие своего Творца. В библейском мироздании Бог и человек «живут в разных домах», у них нет той «коммунальной кухни», которая заставляет общаться вынужденно. Свободный любовный союз с Богом - естественное состояние человека, ради чего, собственно, и был сотворен мир.
Но из этого следует вывод, что смысл природного бытия в его онтологическойнейтральности. Собственно целью исодержанием сотворения мира является возможность свободного общения человека с Богом, природная же сторона мироздания играет вспомогательную роль, обеспечивая эту возможность. Сама по себе природа не обладает вне этой роли никакой «метафизической ценностью». «С точки зрения Библии и писаний св. Отцов земля как дом человека - вершины творения Божия, есть центр вселенной. Все прочее - несмотря на научное объяснение его нынешнего состояния и движения или на его огромные, по сравнению с землей, размеры - второстепенно, и было сотворено ради земли, то есть ради человека» (Иеромонах Серафим (Роуз). Православное святоотеческое понимание Книги Бытия. М., 1998. С. 59). Весь природный материальный космос, таким образом, - лишь «вспомогательный аппарат» для автономного существования земли и человека на ней. Так, например, солнце, равно как и другие светила, звезды и т.д. - суть лишь сгустки плазмы служащие для освещения Земли и равномерного чередования суток и сезонов, т.е. созданные Творцом «космические грелки» и «лампы», не имеющие никакого иного смысла вне своей обслуживающей функции. Вся грандиозная махина космоса, если употребить современную образную аналогию, подобна ракетоносителю, обеспечивающему правильное функционирование маленькому управляемому модулю - Земле; сам же этот модуль создан лишь для того, чтобы обеспечить деятельность космонавта, причем ничтожно-малая «физическая масса» последнего по отношению к массе всего космического корабля нисколько не отменяет полное и абсолютное главенство человека.
Православное учение о сотворении мира, таким образом, не позволяет видеть в природе «мать» человечества - это только его «квартира» и причастие человека к чувственной материи - вторичное, вспомогательное начало его существа, только лишьобеспечивающее его свободу. Утверждать смыслом человеческой деятельности общение с природой и познание ее равнозначно признанию того, что смыслом жизни является благоустройство полученного по наследству жилища и вдумчивое проникновение в тайны действия его электропроводки, отопительных батарей и канализационных стоков. «Неужели, - писал св. Григорий Палама, - во всей нашей практике мы должны смотреть на знание, как на последнюю цель? Видов истины, говорит Василий Великий, два: одну истину крайне необходимо и самому иметь и другим сообщить как помогающую спасению; а если мы не узнаем доподлинной истины о земле и океане, о небе и небесных телах, от этого не будет никакой помехи для обетованного блаженства. Стоящая перед нами последняя цель это обещанные Богом будущие блага, богосыновство, обожение, откровение небесных сокровищ, их приобретение и наслаждение ими; а знания внешней науки, как мы знаем, привязаны к веку сему. <...>Для чего же нам знание, не приближающее к Богу?» (Св. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих. М., 1996. С. 73-74).
С другой стороны, аскетическое уничижение «мировой плоти» в христианстве оказывается и утверждением ее божественной славы. Она не мыслится здесь препятствием для действия через нее в мире божественных энергий (как, например, у гностиков), она вся проникнута огнем Духа, обожена. «... Бог, Которого святые богословы называют огнем, с одной стороны сообразно огню, этому своему слабому подобию в чувственном мире, в Себе сокровенен и незрим, когда нет вещества, способного вместить Божие явление, - но когда Он охватывает достойное Его и неогражденное вещество, а такова вся очистившаяся умная природа, не носящая на себе покрывало греха, тогда Он тоже видится как умный свет» (Св. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих. М., 1996. С. 68). «Мир никак не есть зло, - пишет о. Андрей Кураев. - Он не есть и Бог - но в нем можно ощутить Божие дыхание, потому что... Христос послал в мир Того, Кто «везде Сый и вся исполняяй» (т. е. - Святого Духа - Ю. З.)» (Диакон Андрей Кураев. Христианская философия и пантеизм. М., 1997. С. 118). Поэтому антропологический идеализм православия, на первый взгляд умаляющий тварную природу, на самом деле являет образ первозданного «райского» состояния ее - это добрый человеческий «дом», красивый и уютный, «двери» которого всегда с радостью и любовью отворяются навстречу Богу. «...Рай, будучи изначально земной реальностью, сродни естеству мира до грехопадения человека, состоит из «материи», отличной от материи мира, каким мы его знаем теперь, помещенной между тлением и нетлением», - писал о. Серафим Роуз. Естественно, что ни о какой агрессии и опасности исходящей со стороны тварной природы, тогда, в первозданном виде земного бытия, речи не было. «Адам сотворен был до того неподлежащим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что его ни вода ни топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни воздух не мог повредить каким бы то ни было своим действием, - приводит о. Серафим слова преп. Серафима Саровского. - Все было покорено было ему как любимцу Божию, как царю и обладателю твари. И все любовалось на него как на всесовершенный венец творений Божиих» (Иеромонах Серафим (Роуз). Православное святоотеческое понимание Книги Бытия. М., 1998. С. 96, 112). Этот христианский идеализм, присущий православному взгляду на мир находит, в частности, свое отражение в русской иконописи: здесь является изображение не ныне существующего, а долженствующего состояния мироздания. «Мысль эта, - поясняет Е. Н. Трубецкой. - развивается во множестве архитектурных и иконописных изображений, которые не оставляют сомнения в том, что древне-русский храм в идее являет собою не только собор святых и ангелов, но и собор всей твари. Особенно замечателен в этом отношении древний Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме (Х I I в.). Там наружные стены покрыты лепными изображениями зверей и птиц среди роскошной растительности. Это - не реальные изображения твари, как она существует в нашей земной действительности, а прекрасные идеализированные образы. <...> В параллель к этому памятнику церковной архитектуры можно привести целый ряд иконописных изображений на темы «Всякое дыхание да хвалит Господа», «Хвалите имя Господне» и «О Тебе радуется, обрадованная, всякая тварь». Там точно так же можно видеть всю тварь поднебесную, объединенную в прославлении - бегающих зверей, поющих птиц и даже рыб, плавающих в воде. <...> ...Мы имеем конкретное изображение того нового плана бытия, где закон взаимного пожирания существ побеждается в самом своем корне, в человеческом сердце, через любовь и жалость. Зачинаясь в человеке, новый порядок отношений распространяется и на низшую тварь. Совершается целый космический переворот: любовь и жалость открывают в человеке начало новой твари. И эта «новая тварь» находит себе отражение в иконописи: молитвами святых храм Божий отверзается для низшей твари, давая в себе место ее одухотворенному образу» (Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991. С. 25 - 28. Курсив автора).
Однако, знание о природе, которое сообщает православная натурфилософия, включает в себя, помимо сказанного, и предупреждение об опасности, объективно присущей тварному неразумному миру именно в силу его «бездуховности», отчужденности природы от прямого Божественного действия, замененного Творцом безличными, объективно действующими физическими законами.
Материальные формы бытия создавались Творцом с благой целью - они должны были служить гарантом свободы человека в его общении с Богом. Но именно в таковом качестве природа должна была обеспечить последствия любого, даже инеразумного, выбора своего владыки. Свобода человекапредполагала альтернативу богоборчества, нарушения воли Творца - любовному общению с Ним. Последнее разумелось очевидно естественным для человека, тогда как первое - лишь потенциальной возможностью, существующей исключительно как условие наличия самой свободной воли. Однако, грехопадение привело к тому, что первоначально возможный «путь восхождения от славы в славу», к которому человек вплоть до сей поры продолжает чувствовать подлинное призвание, оказался подмененным «аварийным» бытием человека в материальном природном мире, который, повинуясь действию дурной и нелепой свободы человеческой воли, стал обеспечивать реализацию богоборческого, греховного человеческого бытия. «Грехопадение, - писал о. Сергий (Булгаков), - явилось космической катастрофой, «проклятием» земли, оно проявилось не только в человеке, но и во всем мире. <...> Мир... перестал быть миром-космосом, но сделался миром, во злележащим и страждущим. Растлив свое тело, человек повредил и весь мир, и зло в мире, став законом его жизни, стало плодится и множится также, как и в человеке. После грехопадения начинается новая мировая эпоха, особое состояние мира в поврежденности и стенании, и того «добро зело», в котором мир был создан, не знаем уже мы, потомки Адама» (Протоиерей Сергий Булгаков. Купина неопалимая. Вильнюс, 1990. С. 27).
Мир в его нынешнем, греховном состоянии решительно «отрицается» Православием. Задача человека в настоящем тленном мире - свободное изживание последствий первородного греха, борьба с греховной «тьмой», охватившей мироздание, аскетическое отрицание «царства зверя», которое представляет нынешняя природа. Однако, такое отрицание, видимое насилие над природой оказывается в существе своем делом спасения мира, восстановления его райского, гармонического состояния. Аскетический подвиг, к которому призывает и которому учит Церковь, позволяет вновь распахнуть двери человеческого природного «дома» навстречу Богу, вновь обожить материю, сделать ее достойной для проявления в ней Божественного присутствия, предуготовить ее для «воспламенения» огнем Святого Духа. Этой «человеческой» миссии незримо споспешествует и чудесное действие Бога - в Церковных Таинствах и в благодатном присутствии Его в мире.
Православное учение об отношении человека к природному миру воплощается в идее натурфилософского персонализма, равно противостоящей как псевдохристианскому, механическому антропоцентризму, т. е. радикальному отчуждению человека от природы, порождающему жестокое, потребительскому отношение к ней, так и модному в ХХ веке космоцентризму, который уравнивает человека с любым явлением природного космоса и навязывает ему некие «общие» для всех «тварей» нормы бытия, ограничивающие естественное стремление к свободе и творчеству (своеобразной версией космоцентризма и явилось учение В. С. Соловьева). «...Персонализм сосредоточен на Личности, то есть на человеке как образе и подобии Божьем. Человек перед Богом - основная тема персонализма. Персонализм рассматривает человека как существо, наделенное божественными дарами - свободой, совестью, разумом, способностью любить, стремящегося к осуществлению высших ценностей - Истины, Добра, Красоты. «Христианский идеал ставит человека безмерно высоко» <Н. О. Лосский>. Но эта высота не отъединяет личность от мира. Наоборот, человек как личность в персонализме - это человек «вовлеченный», открытый миру, болеющий о мире, спасающий мир. Преображение мира начинается с преображения души человека - с ее движения к Богу. <...> Человек - не пассивный свидетель, приникший божественной душой к постижению великой и праздничной гармонии мира, сотворенного Богом. Он даже не соучастник этой гармонии. Ему не дано право разделить ответственность за состояние мира с кем-либо, кроме него самого. Он - центр мира. Он - ось мира. Он один ответствен за мир» (Флегонтова С. Русский персонализм и экология // Христианство и экология. СПб., 1997. С. 16-18).
Отсюда следует два основных мотива, присущих православной натурфилософии - во-первых, восприятие природы как дара Божьего, исключающее бездушное насилие над ней, «механическую» эксплуатацию ее богатств, и, во-вторых, сознание уничиженного состояния тварного мира после грехопадения, разрешающее человеку активную борьбу с мировым «хаосом» как с «недолжным», «больным» проявлением природного бытия. Православный натурфилософский персонализм в его реальном воплощении порождает такой тип отношений человека с природой, который не оставляет места идеалистическому благодушию любых «экологических утопий»: стихии тварного мироздания «взбесились», их бытие подобно бытию помешанного, у которого припадки слепой агрессивной ярости чередуются с периодами «просветления». Человек же выступает здесь в трагически-двойственной роли: с одной стороны, именно он является источником «безумия» природы, проецируя «вовне» свои греховные страсти, а, с другой - единственным существом в тварном мироздании, способным с Божьей помощью спасти его от «болезни греха». «...Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, - пишет Апостол Павел, - потому что тварь подчинилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим 8, 19-21). То, что в расхожем понимании именуется борьбой человека с природой (с последующей отрицательной или положительной оценочностью), в православной персоналистской натурфилософии видится продолжениемсотериологической коллизии внутренней борьбы человека с греховными страстями, борьбы, которая, объективируясь, приобретает наглядный и крайне напряженный, трагический характер.
Самым острым и страшным моментом в православном натурфилософском персонализме являются взаимоотношения между человеческим и животным миром.
Согласно библейской истории творения, животный мир был вызван к жизни в шестой день, т.е. непосредственно перед созданием человека. Коль скоро, как уже говорилось, весь тварный «макрокосм» явился для обеспечения свободной жизнедеятельности «микрокосма» - человека, то каждый «день творения» мы можем рассматривать как созидание Творцом некоего рода материальных носителей отдельных форм бытия, собранных затем воедино в «венце творения», наделенном способностью разумного контроля над всеми ими. Животная часть мироздания, как это явствует из самого названия ее, оказывается носителем чувств и эмоций, производимых плотью. Прежде чем соединиться воедино в человеческом существе, эти чувства и эмоции получили, каждое в отдельности, свое самостоятельное воплощение в особом животном виде - так что каждое «животное» оказывается носителем некоей черты «плотского» человеческого бытия, а в целом животный мир представляет собой воплощение этого бытия, является «гарантом» его объективного существования по законам физической необходимости. Взгляд на окружающий нас животный мир, по мнению Святых Отцов Церкви, позволяет человеку наглядно представить себе мир своих собственных «плотских» переживаний. «Ты обладаешь всяким родом диких зверей, - писал свт. Василий Великий о взаимоотношениях «животного» и «человеческого» миров в общей картине тварного мироздания - Но скажи, нет ли диких зверей во мне? Есть, множество. Это точно, громадная толпа диких зверей, которых ты носишь в себе. Не принимай это за обиду. Не есть ли гнев маленький свирепый зверь, который лает в твоем сердце? Не более ли он дик, чем любая собака? И разве обман, пресмыкающийся в вероломной душе, не более жесток, чем пещерный медведь?.. Какого рода диких зверей нет в нас?.. Ты был сотворен, чтобы обладать; ты владыка страстей, владыка диких зверей, владыка птиц... Будь владыкой помышлений внутри себя, чтобы стать владыкой всех существ. Итак, власть, данная нам, посредством живых существ готовит нас осуществлять господство над нами самими» (см.: Иеромонах Серафим (Роуз). Православное святоотеческое понимание Книги Бытия. М., 1998. С. 81-82).
Из слов свт. Василия Великого становится ясно, что «дикость» и «зверство» не были присущи животному миру изначально, а обнаружились только тогда, когда Адам, не смог «осуществлять господство над своими страстями», т. е. явились одним из трагических последствий грехопадения. Во время пребывания в Раю, первые люди, располагающие полнотой бытия в любовном общении с Богом и всецело «владеющие» своей, как душевной, так и плотской природой, проецировали эту гармонию чувств и«вовне». «Природа еще не разделилась, - писал об этом свт. Василий Великий, - ибо она была во всей свежести; охотники не занимались ловом, ибо это не было еще в обычае у людей; звери со своей стороны, еще не терзали свою добычу, ибо они не были плотоядными... Но все следовали жизни лебедей, и все щипали траву на лугах... Такова была первая тварь, и таково будет восстановление после» (см.: Иеромонах Серафим (Роуз). Православное святоотеческое понимание Книги Бытия. М., 1998. С. 84).
Превращение «животных» в «диких зверей» явилось точной «проекцией во вне» того, что произошло с человеческой плотью, вышедшей в миг грехопадения из под контроля душевного «ума». Невинные и гармоничные чувственные переживания превратились в страсти - и это недолжное состояние, в силу установленной Творцом в материальном тварном мире «антропоцентрической необходимости», также «объективировалось», получило свое воплощение в животном мире. Однако, если человеческий «ум» и после грехопадения мог еще более или менее успешно препятствовать развитию плотских страстей внутри человеческого существа, то сами «животные» носители их, в силу простоты своей природы, таковой способностью не располагали. Здесь плотские страсти развились до последнего предела, до «зверства», причем те из них, которые и в человеке с легкостью превозмогают ослабленный грехопадение «ум» (половая похоть, алчность, жадность, агрессивность и т. п.), превратили своих носителей в животном мире в хищников, несущих страдания и смерть всему окружающему. «Животные утратили повиновение и любовь к человеку, утратившему повиновение и любовь к Богу. Они вступили во враждебные отношения к нему. Одних он покоряет себе насильно; с другими он - в вражде и войне непримиримой и убийственной. Весьма - весьма немногие породы остались с приверженностью к нему, как бы грустный памятник и образец прежней всеобщей любви; большинство удалилось и укрылось от него в дремучие леса, в обширные степи, в ущелия гор и темные пещеры. Дикие и неприязненные взоры кидают они на прежнего обладателя своего, когда неожиданно встретятся с ним. Они как бы видят в нем преступника, врага Божия; одни быстро бегут от него, другие с остервенением кидаются на него, чтоб растерзать его. В неприязненные отношения вступили животные и меж собою: оставив пищу, сначала для них предназначенную, ощутив изменение в самом естестве своем, которое, приобщилось к проклятию, поразившему землю, они восстали друг на друга, начали пожирать друг друга. Смерть, которой обречены были наши праотцы за грех свой, смерть, которую они ощутили и в душе и в теле по отступлении Божественной благодати, но которой явного последствия еще не ведали, они увидели и уведали на животных» (Свт. Игнатий (Брянчанинов). Слово о человеке. М., 1995. С. 18-19).
Это учение о «зверях», как о животных воплощениях отдельных человеческих страстей, развитых до возможного предела в поврежденном грехопадением мироздании, является основанием для всевозможных «бестиарных» аллегорий, чрезвычайно популярных в аскетике. Борьба с «плотскими» грехами описывается здесь как борьба с хищными зверями, причем особо подчеркивается «лютость» этой борьбы, кровавый, жестокий характер ее. Страсти приходится умерщвлять или, по крайней мере, укрощать их чудовищным насилием, ибо они хитры, беспощадны, неумолимы и невероятно живучи. Реальная встреча с хищным зверем трактовалась здесь в символическом «сотериологическом» духе - как встреча с живым воплощением собственной плотской страсти, отраженной в «дьявольском» зеркале поврежденной первородным грехом природы. Соответственно и образ кровавой борьбы человека со зверем оказывается здесь образом внутреннего единоборства с тем плотским грехом, который воплощает данный животный вид. Из литературы духовной эта «бестиарная» символика перекочевала и в литературу светскиую - самым известным примером подобного рода в мировой литературе является знаменитая первая песнь «Ада», повествующая о блужданиях Данте в «сумрачном лесу»:
Когда я телу дал передохнуть, Я вверх пошел, и мне была опора В стопе, давившей на земную грудь. И вот, внизу крутого косогора, Проворная и вьющаяся рысь, Вся в ярких пятнах пестрого узора. Она, кружа, мне преграждала высь, И я не раз на крутизне опасной Возвратным следом помышлял спастись. <...> Доверясь часу и поре счастливой, Уже не так сжималась в сердце кровь При виде зверя с шерстью прихотливой; Но, ужасом его опять стесня, Навстречу вышел лев с подъятой гривой. Он наступал как будто на меня, От голода рыча освирепело И самый воздух страхом цепеня. И с ним волчица, чье худое тело, Казалось, все алчбы в себе несет; Немало душ из-за нее скорбело. Меня сковал такой тяжелый гнет Перед ее стремящим ужас взглядом, Что я утратил чаянье высот.
(Ад. Песнь 1. 31-52. Пер. М. Л. Лозинского).
Дантовский «шифр» не был загадкой для современников: под «сумрачным лесом» разумелась греховная жизнь, а звери, препятствующие восхождению на «холм спасения», оказываются воплощением сладострастия (рысь), властолюбивой гордости (лев) и корыстолюбия (волчица). Если же говорить об отечественной литературе, то можно вспомнить, например, пушкинский «сотериологический» отрывок -
Напрасно я бегу к сионским высотам, Грех алчный гонится за мною по пятам... Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, Голодный лев следит оленя бег пахучий,
восходящий к стиху из Первого соборного послания Петра (5, 8), или «паучиные» кошмары героев Достоевского.
Однако, эта страшная и трагическая сторона натурфилософского православного мышления не должна заслонять собою и утверждение возможности «спасения», «преображения» «зверей» в «животных» - в случае, если встреченный ими человек не является источником зверства, если греховные страсти плоти в нем отсутствуют и его природа оказывается «восстановлена» в подлинной гармонической целостности. Отсюда - история заточения Даниила в львиный ров (Дан 6, 19-27), таинственное поминание Марка о сорокодневном пребывании Спасителя в пустыне «со зверями» (Мк 1, 13), а также - многочисленные трогательные рассказы о чудесных «приручениях» святыми самых свирепых животных существ: львов, гиен, волков и т. п. (см.: Горичева Т. Святые животные // Христианство и экология. СПб., 1997. С. 111-175). В общем же можно сказать, что православное мировоззрение, созерцает природу сквозь призму сотериологии - и та картина, которую дает это «преломление зрения» оказывается до невероятности странной для светского взгляда, свойственного посетителям естественнонаучных музеев, ботанических садов и зоопарков.
IV
Уже первые критики, обратившиеся к ранней поэзии Гумилева, особо отмечали странное пристрастие молодого поэта к «бестиарной» образности, причем для большинства из них эта особенность гумилевской «эйдолологии» явилась лишним поводом для откровенно-иронических замечаний. Так, Росмер (он же, в данном случае, либо Вас. В. Гиппиус, либо С. М. Городецкий) в газете «Против течения» замечал, что поэзия Гумилева может служить «лучшим образцом того зоологического направления, которое приняла любовная лирика современности» (Николай Гумилев: pro et contra. СПб., 1995. С. 376 (Русский путь)), а в «Образовании» появилась обстоятельная рецензия Л. Н. Войтоловского, который использовал текст первого издания «Жемчугов» для сложных статистических подсчетов: «Почти нет ни одного стихотворения, в котором не было бы нескольких представителей четвероногого или пернатого царства. Так, на с. 1 - фигурируют бешеные волки, на с. 3 - пантеры, на с. 6 - пес и дикий бык, на с. 11 - «жадные волки», на с. 12 - бешеные собаки, на с. 16 - опять пантеры, на с. 18 - слон, лев, обезьяна и волк, на с. 21 - тигр, барс и волк, на с. 22 - коршун, на с. 25 - дракон. Перекидываю страниц 20 и смотрю наугад: на с. 45 - тигрица, на с. 49 - коршун, на с. 52 - слон и тигры, на с. 53 - волки. Снова пропускаю страниц 50 и вижу: на с. 101 - медведица и бешеный пес, на с. 104 - дикий конь, россомаха и медведь, на с. 106 - выпь, на с. 111 - хорек, заяц, сороки, на с. 117 - «рыжие тюлени», на с. 127 - гиены. Беру, наконец, с конца, и там все то же: на с. 153 и 154 - один жираф, два носорога, буйвол и стая обезьян, на с. 157 - верблюд, на с. 160 - удавы, на с. 164 - псы и на с. 165 - вороны и сокол. В общем, по произведенному мною утомительному, но полезному подсчету, на страницах «Жемчугов» г. Гумилева фигурируют : 6 стай здоровых собак и 2 стаи бешеных, одна стая бешеных волков, несколько волков-одиночек, 4 буйвола, 8 пантер (не считая двух, нарисованных на обложке), 3 слона, 4 кондора, несколько «рыжих тюленей», 5 барсов, 1 верблюд, 1 носорог, 2 антилопы, лань, фламинго, 10 павлинов, 4 попугая (из них один - антильский), несколько мустангов, медведь с медведицей, дракон, 3 тигра, россомаха и множество мелкой пернатой твари. Полагаю, что при таком неисчерпаемом обилии всех представителей животного царства, книге стихов г. Гумилева правильнее было бы именоваться не «Жемчуга», а «Зверинец», бояться которого, конечно, не следует, ибо и звери, и птицы - все, от пантеры до последней пичужки - сделаны автором из раскрашенного картона. И это, по-моему, безопаснее. Ибо за поддельных зверей и ответственности никакой не несешь» (Николай Гумилев: pro et contra. СПб., 1995. С. 373-374 (Русский путь)). Последнее заявление, впрочем, если и было возможно, то только по отношению к поэзии «Жемчугов»: другие произведения Гумилева о животных никак не могут - даже при самом горячем желании критика - дать возможность избежать проблемы ответственности автора за сказанное.Особое место здесь занимают очерки, объединенные общим названием «Африканская охота» (см. далее: Гумилев Н. С. Сочинения. В 3 т. М., 1991. Т. 2. С. 223-230). Это - фрагменты из неопубликованного полностью при жизни Гумилева дневника, который он вел во время последнего путешествия в северо-восточную Африку в 1913 году. Биографы Гумилева обычно обходят «Африканскую охоту» стыдливым молчанием - уж очень специфична тематика, организующая здесь единство содержания. Это -рассказы о жестоком умерщвлении охотниками диких хищных животных, морских и наземных.
«Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт парохода и, словно винтом, бурлила им по воде. Помощник капитана, перегнувшись через перила, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и затихла. Пять черных дыр показались на ее голове и беловатых губах. Еще усилье, и страшная туша уже у самого борта. Кто-то тронул ее за голову и она лязгнула зубами. Видно было, что она еще свежа и собирается с силами для решительного боя. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильны и ловким прямым ударом проткнул ей грудь и, натужившись, довел разрез до конца. Хлынула вода, смешанная с кровью, розоватая селезенка аршина в два длиною, губчатая печенка и кишки вывалились и закачались в воде, как еще невиданной формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и ее без труда втащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце, и оно, пульсируя, двигалось то туда, то сюда лягушачьими прыжками. В воздухе стоял запах крови»...
«Леопард подпрыгнул аршина на полтора и грузно упал на бок. Задние ноги его дергались, взрывая землю, передние подбирались, словно он готовился к прыжку. Но туловище было неподвижно, и голова все больше и больше клонилась на сторону: пуля перебила ему позвоночник сейчас же за шеей»...
Конечно, охота, тем более «африканская» - занятие не для слабонервных. И все же, читая эти фрагменты, нарочно выбранные Гумилевым из своих путевых заметок и отредактированные им для отдельной публикации, нельзя не заметить, что даже на фоне изобильной в отечественной литературе «охотничьей прозы», они резко выделяются сознательной установкой автора на подробное, натуралистическое изображение кровавых «физиологических» жестокостей и плотских страданий животных - того самого, что, в большинстве случаев если и не обходится гуманными русскими писателями-натуралистами «фигурой умолчания», то, по крайней мере, не изобилует такими подробностями как плавающие в воде внутренности еще живой акулы или перебитый пулей «сейчас же за шеей» позвоночник леопарда.
Вопрос в том, зачем Николаю Степановичу потребовалось столь ярко живописать именно ужасы «африканской охоты»? Ответить на этот вопрос нам помогает финальная сцена. «Ночью, лежа на соломенной циновке, - вспоминает рассказчик, - я долго думал, почему я не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову и я, истекая кровью, аплодирую умению палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно».
Биографы традиционно приводят фразу об «абиссинском дворцовом перевороте» и «отрублении головы» как одно из «пророчеств» Гумилева о собственной гибели в 1921 г. Об этих «пророчествах», впрочем, мы будем еще говорить, однако именно финал «Африканской охоты» менее всего согласуется с той картиной «смертных обстоятельств», которая, действительно многократно повторяется в разные годы в гумилевском творчестве. Там речь идет о гибели как таковой, страшной, страдальческой и внезапной. Герой помянутых произведений погибает «в болотине проклятой», «дикой щели», на гильотине, падает, обливаясь кровью, на «пыльную и мятую траву», «смертно тоскуя» и т.п. О причинах гибели, тем более - о виновности или невиновности героя вообще не поминается - сам факт страдальческой смерти оказывается, как мы впоследствии убедимся, исчерпывающе важным для Гумилева, настолько важным, что какие-либо иныесопутствующие мотивы сознательно игнорируются.
Во сне из «Африканской охоты» речь идет о справедливой казни.
Смерть героя оказывается справедливым воздаянием за участие в «каком-то абиссинском дворцовом перевороте», и, потому, она воспринимается как искупление совершенного греха и освобождение от него. Из-за этого она не вызывает «смертной тоски», а переживается даже самим казненным, как нечто естественное - «это просто, хорошо и совсем не больно». Если не выдирать эту сцену из контекста, присваивая ей «пророческий» смысл, то можно увидеть здесь, тот самый ответ на вопрос об оправданности убийства охотником зверей «для забавы», которое не расторгает «кровной связь с миром» и не порождает «угрызений совести». Оказывается, что в сознании рассказчика происходит своеобразное отождествление хищных жертв «африканской охоты» с самим собой - и в диких зверях и в своей собственной натуре рассказчик прозревает некий единый порок, освобождение от которого может прийти лишь в результате казни.
Заметим, что охотник встречает самых страшных хищников, самый облик которых оказывается воплощением агрессивного зверства. Сначала описывается ловля акулы - огромной туши с «круглой лоснящейся головой с маленькими злыми глазами; такие глаза я видел только у старых, особенно свирепых кабанов». Затем речь идет об охоте на леопарда - «пестрого зверя, величиною с охотничью собаку», который «бежал на подогнутых лапах, припадая брюхом к земле и слегка махая кончиком хвоста, а тупая кошачья морда была неподвижна и угрюма». Затем охотник рассказывается о неудачной попытке застрелить льва - «черного на фоне черных кустов», который «выходил из чащи, и я заметил только громадную, высоко поднятую голову над широкой как щит грудью», - и, наконец, - об охоте на «большую полосатую гиену», «щелкающую зубами» и «огрызающуюся» и на павианов: «Из глубины ущелья повалило стадо павианов. Мы не стреляли. Слишком забавно было видеть этих полусобак - полулюдей, удирающих с той комической неуклюжестью, с какой из всех зверей удирают только обезьяны. Но позади бежало несколько старых самцов с седой гривой и оскаленными желтыми клыками. Это уже были звери в полном смысле этого слова, и я выстрелил».
Как мы видим, в последнем приведенном отрывке содержится существенное смысловое дополнение, относящееся не только к данному эпизоду, но и ко всему циклу очерков: оказывается гумилевский «охотник» стреляет только в тех животных, которые являются «зверями в полном смысле этого слова». Получается, что не все «животные» были для Гумилева «зверями», более того - даже животные одного и того же вида могут «зверями» быть, а могут и не быть.
В страшных сценах, нарисованных Гумилевым, есть повторяющийся поэтический контраст, который производит впечатление еще более сильное, нежели натуралистические детали в роде вспоротого акульего живота и застрявшей в позвоночнике леопарда пули. Дело в том, что непосредственно в момент мучительной гибели звери, пораженные охотниками, вдруг, волей рассказчика, начинают приобретать человекообразные черты. Так, например, в момент, предшествующий единоборству, «зверские черты» предстают в облике «старого павиана-самца» с навязчивой отчетливостью - вспомним «седую гриву» и «оскаленные желтые клыки», - однако картина его агонии воссоздается с помощью антропоморфного сравнения, резко контрастирующего с предшествующим описанием: он «остановился и хрипло залаял, а потом медленно закрыл глаза и опустился на бок, как человек, который собирается спать. Пуля затронула ему сердце, и, когда к нему подошли, он был уже мертв». Подобный антропоморфизм присутствует и в рассказе о ловле акулы, когда, среди прочего, поминается об «осиротевших» рыбах-лоцманах, сопровождавших пойманную хищницу: «А в воде у самого борта суетился осиротелый лоцман. Его товарищ исчез, очевидно мечтая скрыть в каких-нибудь отдаленных бухтах позор невольного предательства. Но этот был безутешен: верный до конца, он подскакивал над водой, как бы желая посмотреть, что там делают с его госпожой, крутился вокруг плавающих внутренностей, к которым жадно спешили другие акулы, и всячески высказывал свое последнее отчаянье». Можно помянуть и о «остановившихся глазах» мертвого леопарда, которые «заволакивала беловатая муть» и о его «мягком, точно бескостном теле», от прикосновении к которому охотника вдруг «передергивает», как от прикосновения к телу человеческого покойника.
Создается впечатление, что смерть преображает жертв «африканской охоты»: страшное, хищное, собственно зверское покидает их тело вместе с жизненными импульсами, и предстающий перед глазами рассказчика мертвый труп животного вдруг обнаруживает первоначальное, «райское», невинное обличие его.
Еще страшнее тот же самый контраст проявляется в рассказе «Лесной дьявол» (см. далее: Гумилев Н. С. Сочинения. В 3 т. М., 1991. Т. 2. С. 212-218), одном из самом скандальных у Гумилева и, несомненно, являющийся одним из редких вообще в гумилевском творчестве следов влияния Р. Киплинга. Рассказ начинается описанием мучений огромного старого павиана, которого ужалила ядовитая змея. Для того, чтобы избавиться от страданий и смерти он ищет целебную траву, однако путь ему преграждает река: «На зверей змеиный яд действует медленно, и пока он только смутно испытывал характерное желание биться и кататься по земле. Укушенная нога болела нестерпимо. Но уже близок был желанный брод, уже виден был желанный утес, похожий на спящего буйвола, который лежал, указывая его место, и павиан ускорил шаги, как вдруг остановился, вздрогнув от яростного изумления. Брод был занят». Далее описывается великолепная кавалькада Ганнона Карфагенянина, переходящая реку. Взбесившаяся от боли обезьяна бросается на всадников: «...Могучим прыжком он очутился на шее одного из проезжавших коней, который поднялся на дыбы, пронзительно заржал от внезапного ужаса и бешено помчался в лес. Сидевшая на нем девушка судорожно схватилась за его гриву, чтобы не упасть во время этой неистовой скачки». Спустя некоторое время, конь падает с перегрызенной шеей, и обезьяна с девушкой оказываются на лесной поляне.
«Павиан стал на четвереньки и хрипло залаял. Его гнев был удовлетворен смертью коня, и он уже хотел спешить за своей целебной травой, но, случайно взглянув на девушку, остановился. Ему вспомнилась молодая негритянка, которую он поймал недавно одну в лесу, и те стоны и плач, что вылетали из ее губ в то время, как он бесстыдно тешился ее телом. И по-звериному острое желание владеть этой девушкой в красной одежде и услышать ее мольбы внезапно загорелось в его мозгу и легкой дрожью сотрясло уродливое тело. Забылся и змеиный яд, и необходимость немедленно искать траву. Не спеша, со зловонной пеной желания вокруг безобразной пасти, начал он подходить к своей жертве, наслаждаясь ее ужасом. <...> Но змеиный яд делал свое дело, и, едва павиан схватился за край шелковой одежды и разорвал ее наполовину, он вдруг почувствовал, что какая-то непреодолимая сила бросила его навзничь, и он судорожно забился, ударяясь головой о камни и цепляясь за стволы деревьев. Иногда неимоверным усилием воли ему удавалось на мгновение прекратить свои корчи, и тогда он приподнимался на передних лапах, с трудом поворачивая в сторону девушки свои невидящие глаза. Но тотчас же тело его вздрагивало, и, с силой перевертываясь через голову, он взмахивал в воздухе всеми четырьмя лапами. <...> И когда приблизились посланные на розыски карфагеняне, они нашли девушку лежащей без чувств в трех шагах от издохшего чудовища».
Спасение девушки приписали чуду «богини Истар» (т. е. - Иштар, Астарты). Рассказ завершается благополучным соединением Ганнона и его невесты, однако этому предшествует неожиданный эпизод. «Озлобленные карфагеняне отрубили голову у мертвого павиана , и, воткнутая на кол, она была выставлена посреди лагеря, чтобы каждый проходящий мог ударить ее или плюнуть, или как-нибудь иначе выразить свое презрение. Тупо смотрели в пространство остекленевшие глаза, шерсть была испачкана запекшейся кровью, и зубы скалились по прежнему неистово и грозно. Девушка вздрогнула и остановилась. В ее уме снова пронеслись все удивительные события этого дня. Она не сомневалась, что богиня Истар действительно пришла ей на помощь и поразила ее врага, чтобы сохранилась ее девичья честь, чтобы не запятнался древний род, чтобы сам прекрасный как солнце Ганнон взял ее в жены. Но в ней пробудилось странное сожаление к тому, кто ради нее осмелился спорить с Необорной и погиб такой ужасной смертью. Над какими мрачными безднами теперь витает его дух, какие леденящие кровь видения теперь окружают его? Страшно умереть в борьбе с врагами, умереть, не достигнув цели, и навсегда унести в темноту неистовое бешенство желаний. Порывистым движением девушка наклонила свои побледневшие губы к пасти чудовища и мгновенный холод поцелуя остро пронзил все ее тело».
За киплинговскими зоофилическими ужасами в духе «Бими» здесь ясно ощущается вполне гумилевское желание христианского «натурфилософского» оправдания «чистого» плотского, животного начала, обращающегося в «звере» в ужасное и безобразное «неистовое бешенство желаний» (обезьяна в христианской «бестиарной» символике была одним из обозначений ненасытного и извращенного блуда): смерть зверя, а затем и посмертная «казнь» его уничтожает собственно «зверство», как бы «очищает» пораженную греховной похотью плоть - остается нечто, вызывающее сострадание.
Подобная «натурфилософия», действительно, превращает гумилевских «африканских охотников» в «умелых палачей», действия которых оправдываются некоей высшей справедливостью, тогда как звери-жертвы оказываются носителями некоего «метафизического порока», от которого их освобождает гибель. Жестокость единоборства зверя с охотником, в этом случае, подобна жестокости «отрубления головы» в сонном видении героя, - она не распространяется дальше «физиологии»; по существу же это -«просто, хорошо и совсем не больно». Насилие обращено здесь не против плоти, а против обретающегося в ней «зверства», и плотские страдания, которыми сопровождается исторжение «зверства» оказываются, потому, оправданными, - так, как оправдываются, например, страдания больного под ножом хирурга, исторгающего болезнь из тела. Но подобный образ «радостной казни» весьма распространен в аскетических сочинениях. «Покусившимся с телом взойти на небо, - пишет автор самого известного аскетического руководства - поистине потребны крайнее понуждение и непрестанные скорби.., доколе сластолюбивый наш нрав и бесчувственное сердце истинным плачем не превратятся в боголюбие и чистоту. Ибо труд, поистине труд и большая сокровенная горесть неизбежны в сем подвиге, особенно для нерадивых, доколе ум наш, сей яростный и сластолюбивый пес, через простоту, глубокое безгневие и прилежание, не сделается целомудренным и люборассмотрительным. <...>Всем, приступающим к сему доброму подвигу, жестокому и тесному, но и легкому, должно знать, что они пришли ввергнуться в огонь, если только хотят, чтобы в них вселился невещественный огонь» (Св. Иоанн Лествичник. Лествица, возводящая на небо. М., 1997. С. 31-32). Финал «Африканской охоты», метафорически соединяющий смерть зверя с «радостной казнью» греховного человека, показывает, что «натурфилософия», обусловившая пресловутую поэтическую специфику гумилевского повествования, есть ни что иное, как православный натурфилософский персонализм.
Как уже говорилось, персонализм не видит в тварном природном мироздании ничего, что не было бы присуще человеку. В частности, стихийный «хаос», предстающий в животном мире в виде «зверства», оказывается здесь «внешним» проявлением «внутренних» движений грешной плоти, а «натурфилософская» идея «укрощения» природной стихии является, по существу, повторением основ аскетики, которая также предписывает «укрощение», «изнурение плоти» в целях умерщвления обитающего в ней греховного «хаоса», предписывая при этом «телу» весьма болезненные упражнения. «Тело желает наслаждаться соответственными ему вещами посредством чувства, - пишет преподобный Феодор Едесский, - а чем более удовлетворенно бывает, тем более желает. А это противно стремлению души. Почему, первою заботою души да будет - всем чувствам наложить узду, чтобы не услаждаться чувственным, как сказано. Поелику же тело чем сильнее бывает, тем сильнее стремиться к своему; чем же сильнее к сему стремиться, тем неудержимее бывает, то душе надлежит второе - усиленно стараться умерщвлять плоть постом, бдением, стоянием, спанием на голой земле и всякими другими лишениями, чтоб истощив силы ее, иметь ее смиренною и благопокорною при всех духовных деяниях...» (Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1992. Т. 3. С. 356).
Природа сама по себеметафизически пуста, как само по себе «пусто» зеркальное стекло, «содержанием» которого является отраженный в нем образ человека. Точно так, единственной действительной «тайной природы» является ее способность отражения всего ужаса того зверского хаоса, который живет в человеке после грехопадения. Настоящий «зверь» скрывается в человеке, тогда как в видимом «природном» звере скрывается доброе и кроткое человекообразное «животное», созданное Творцом для службы своему земному повелителю - вот страшная истина, вполне усвоенная Гумилевым. В его творчестве образ «африканской охоты» приобретает жуткое символическое значение. Животная плоть природы здесь сотрясается отвратительными, безобразными конвульсиями «зверства», вызывающими у «охотника» немедленную естественную реакцию беспощадного отрицания этого темного, хаотического кошмара - и тогда летят пули, разрывающие кровавую ткань, вонзаются заостренные лезвия и железные ломы, расчленяющие костные суставы. Но, в результате, мертвая, растерзанная, кровавая туша, которая остается перед взорами «охотника», вдруг приобретает совсем несвойственные ей минутой раньше «кроткие» черты, как бы «обливаясь кровью, аплодирует искусству палача и радуется, как все это просто, хорошо и совсем не больно». И в этот миг «охотник» понимает - он стрелял в самого себя, в свое собственное alter ego, вдруг повтречавшееся во время «земного странствия» в «сумрачном лесу»...
Один из очерков «путевого дневника», рассказывающий об охоте на леопарда, получил в последующем гумилевском творчестве своеобразный «автокомментарий» - стихотворение «Леопард», которое раскрывает метафизическое содержание состоявшегося некогда поединка между охотником и зверем.
Согласно свидетельству И. В. Одоевцевой, шкура леопарда, убитого в Африке, действительно присутствовала в интерьере квартиры Гумилева в доме № 5/7 по «пустынной Преображенской» (ныне - ул. Рылеева) - в последнем «личном» жилище поэта в Петрограде: «Он обыкновенно лежит перед кроватью в спальне, изображая коврик. <...> Леопард небольшой, плохо выделанный, жесткий и ничем не подбит» (Одоевцева И. В. На берегах Невы. М., 1988. С. 213-214). Нужно отметить, что библейский «бестиарий» отводит леопарду (или барсу) очень заметное место. Из-за своей кровожадности леопард выступает здесь как символ безбожной власти, средоточие греховных страстей (см.: Дан 7, 6), а в Апокалипсисе эта символика конкретизируется: облик леопарда имеет «Зверь», т. е. Антихрист со своими последователями (Откр 13, 2). К этому следует добавить, что в средневековых бестиариаях кошачьи вообще, и, в особенности, «меченные», т.е. пятнистые, воплощали неутолимое сладострастие, а в африканской мифологии в леопардов были обращены людоеды и колдуны, так что само убийство их на охоте должно сопрягаться с определенными магическими действами, чтобы предотвратить посмертную месть зверя. Одно из таких поверий используется в стихотворении Гумилева: «Если убитому леопарду не опалить немедленно усов, дух его будет преследовать охотника».
Голос убитого некогда хищного зверя вдруг раздается в самом охотнике «глухой ночью», и соблазняет его «лукавым зовом» тоскующей по зверским наслаждениям плоти:
Колдовством и ворожбою В тишине глухих ночей Леопард, убитый мною, Занят в комнате моей. Люди входят и уходят, Позже всех уходит та, Для которой в жилах бродит Золотая темнота. Поздно. Мыши засвистели, Глухо крякнул домовой, И мурлычет у постели Леопард, убитый мной.
Отметим, что сексуальное возбуждение помянуто автором не случайно: половая похоть является одной из самых сильных форм «плотской» похоти. Не случайно, конечно, выбрано и время действия: ночь как «темное» время суток традиционно располагает к восприятию «темных» же хаотических порывов плоти. Здесь не удержаться от поминания тютчевского «голоса ночного ветра»:
О, страшных песен сих не пой Про древний хаос, про родимый! Как жадно мир души ночной Внимает повести любимой!
«Дух зверя» нашептывает лирическому герою Гумилева подобную же «любимую повесть»:
«По ущельям Добробрана Сизый плавает туман, Солнце, красное, как рана, Озарило Добробран. Запах меда и вервены Ветер гонит на восток, И ревут, ревут гиены, Зарывая нос в песок. Брат мой, враг мой, ревы слышишь, Запах чуешь, видишь дым? Для чего ж тогда ты дышишь Этим воздухом сырым? Нет, ты должен, мой убийца, Умереть в стране моей, Чтоб я снова мог родиться В леопардовой семье».
У Тютчева «ночной» зов «хаоса» - «чуждый» и «роковой»; у Гумилева - «лукавый» и «вражий», конкретнее - это голос леопарда, африканского хищника «величиной с охотничью собаку», который «бежал на подогнутых лапах, припадая брюхом к земле и слегка махая кончиком хвоста, а тупая кошачья морда была неподвижна и угрюма» («Африканская охота»). В этого леопарда стрелял гумилевский «охотник», но, убив его, долго не мог прикоснуться к «мягкому, точно бескостному телу», как будто бы это было тело нечаянно убитого человека. Леопардовское «зверство» оказалось не принадлежащим убитому «животному», а было, как это теперь понятно лирическому герою Гумилева, лишь «внешним» отражением настоящего, подлинного, греховного «зверства», сокрытого в «охотнике»... И вот, «в тишине глухих ночей», это личное, знакомое, теплое зверство пробуждается, сразу, после того, как еще не «перебродила в жилах золотая темнота» половой похоти, и - тихо, неотвязно «мурлычет»:
Брат мой, враг мой, ревы слышишь, Запах чуешь, видишь дым? Для чего ж тогда ты дышишь Этим воздухом сырым? И страшно тянет... в зоопарк. Или - в Африку.
Знакомые Гумилева специально отмечают его странную, болезненную привязанность к созерцанию хищных зверей. «Постоянно бывал в музеях природы: Jardin des Plantes, Jardin d’ Acclimations - отмечает, описывая «парижский» период 1906 - 1908 гг. в «Трудах и днях Гумилева» П. Н. Лукницкий, - подолгу, иногда по ночам наблюдает крокодилов, гиен, тибетских медведей, птиц и других животных. Бывал в зверинце Adrian Pezon, большом, провинциальном, разъезжавшем по Франции в специальных фургонах. Читал Брема и Реклю» (Лукницкая В. К. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. М., 1990. С. 55-56). «Любование красотой хищников: «меха пантер, мне нравились их пятна», - пишет в своих заметках о Гумилеве О. А. Мочалова (это уже 1916 - 1921 гг.). - Сочувствие тоске их пленения - и человеком, и условиями дикого существования. И - наиболее сложное - провиденье переходных форм звериного бытия» (Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 116). Лукницкий же упоминает, что, после посещения зверинцев, Гумилев шел в парижские предместья и имел какие-то таинственные встречи (вспомним, что как раз в это время он стал курить опиум, да так, что чуть было не довел себя до умоисступления) с «неграми, малайцами, сиамцами» в третьеразрядных кафе (Лукницкая В. К. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. М., 1990. С. 56).
Брат мой, враг мой, ревы слышишь, Запах чуешь, видишь дым? Для чего ж тогда ты дышишь Этим воздухом сырым? африка...
Для Гумилева - это одно из самых значимых слов.
А в «Леопарде» «лукавый зов» взбесившейся, «зверской» плоти настойчиво зовет лирического героя именно туда:
Пальмы... с неба страшный пламень Жжет песчаный водоем... Данакиль припал за камень С пламенеющим копьем. Он не знает и не спросит, Чем душа моя горда, Только душу эту бросит Сам не ведая куда. И не в силах я бороться, Яспокоен и встаю, У жирафьего колодца Я окончу жизнь свою.
Биографы Гумилева, дойдя в своих очерках, до «африканской» тематики, обычно, сразу же принимают некий умиленно-благостный тон и, конечно, цитируют, в первую очередь, стихи, от которых сошла с ума не только читающая Россиия, но и - читающая Европа (и это исступление продолжается и по сю пору):
Далеко, далеко, за озером Чад Изысканный бродит жираф...
Слов нет - гениальное стихотворение. Но... написанное до путешествий в Африку. И что тут скажешь - сам помню, как почувствовал чуть ли не личную обиду, когда узнал, что Гумилев никогда не был на «озере Чад», что его Африка - это северо-восток материка, Абиссиния и Сомали... Если же смотреть на африканскую конкретику в гумилевском творчестве, мы увидим нечто радикально отличное от раннего романтического «Жирафа». «Самое ужасное - мне в Африке нравится обыденность, - говорил сам Гумилев, - Быть пастухом, ходить по тропинкам, вечером стоять у плетня... Старухи живут интересами племянников и внуков, их взаимоотношениями, имуществом, а старики уходят в поля, роются в земле, колдуют...» (Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 119). «Европеец, - читаем в «Африканской охоте», - если он счастливо проскользнет сквозь цепь ноющих скептиков (по большей части из мелких торговцев) в приморских городах, если не послушается зловещих предостережений своего консула, если, наконец, сумеет собрать не слишком большой и громоздкий караван, может увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тому назад: безымянные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос только Бог, скрытые в горных ущельях, сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка; он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока и как коготь, скрытый в его хвосте, звенит, ударяясь о ребра; он подивится древнему племени шангалей, у которых женщина в присутствии мужчины не смеет ходить иначе как на четвереньках; и если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказочных принцев. Но он должен, - пишет далее Гумилев, - закалить и свое тело, и свой дух: тело, чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голодовок; дух - чтобы не трепетать при виде крови своей и чужой и принять новый мир, столь непохожий на наш, огромным, ужасным и дивно-прекрасным».
Авторы биографических очерков с радостью принимают «огромную» и «дивно-прекрасную» гумилевскую Африку, но никак не могут понять ее «ужаса».Между тем, целый ряд гумилевских произведеий недвусмыслено свидетельствует о том, что среди могочисленных, действительно позитивных мотивов, связанных в его творчестве с «африканской» тематикой (об этом будет сказано далее), присутствуют и мотивы, обозначающие опасность, исходящую от таинственного «черного материка»:
Оглушенная ревом и топотом, Облеченная в пламя и дымы, О тебе, моя Африка, шепотом В небесах говорят серафимы. И, твое раскрывая Евангелье, Повесть жизни ужасной и чудной, О неопытном думают ангеле, Что приставлен к тебе, безрассудной.
(«Вступление» к «Шатру»)
«Шепотом», т. е. со страхом, говорящие об Африке серафимы, «неопытный» ангел-спаситель, приставленный к «безрассудной», т. е. не имеющей способности к «рассуждению», не имеющей душевного «ума» части света, - мы уже знаем, что в устах Гумилева такие определения не являлись случайностью.
Гумилев созерцал «свою» Африку сквозь призму православной сотериологии, и это позволяло ему отчетливо видеть в ней воплощение «звериной души», тревожащей человека, «ночными зовами» неукрощенного хаоса, поразившего мир после грехопадения. Его Африка, «дивно-прекрасная», с одной стороны, с другой - нищая, хищная и страшная, грубая и жестокая, «висящая» чудовищным грузом «на шее Евразии». В частности, в «Леопарде» Африка - место гибельное для «духа», тот уголок земли, где «зверские» страсти не сдерживаются волею «ума», где никто не спрашивает «чем горда душа» христианина, но где очень легко «бросить» свою душу «сам не ведая куда».
Гумилева, действительно, всю жизнь с неудержимой силой «влекло» в Африку, но, как мы видим, сам он относился к этому переживанию достаточно сложно, улавливая здесь, среди прочего, и «лукавый зов» - с чувством, весьма похожим на покаянный ужас, свойственный грешнику, который ощущает немощь в борьбе с увлекающим «зовом плоти». В Африку настойчиво увлекает лирического героя «вражья сила» - и, потому, тот «жирафий колодец», где он может «окончить жизнь», не воспринимается в празднично-романтическом контексте «Жирафа» 1907 г. И «Леопард» не является чем-то исключительным в ряде «африканских» стихотворений Гумилева:
Ах, бежать бы, скрыться бы, как вору, В Африку, как прежде, как тогда... Лечь под царственную сикомору И не просыпаться никогда.
(«Вероятно, в жизни предыдущей...»)
«Бегство в Африку» оказывается здесь «воровским действом», чем-то недолжным, хотя и очень соблазнительным для лирического героя, утомленного нелепостями «цивилизованного» существования в России и Европе (стихотворение написано в разгар революционных событий 1917 года).
Символический образ «бегства от цивилизации», известный в европейской культуре еще с античных времен, распадается при попытке семантизации на бесчисленные составляющие. Среди прочего, здесь можно найти и трактовку, объясняющую такое «бегство» как символический акт капитуляции человеческой воли перед «телесной усталостью». Собственно «человеческое» существование, предполагающее диктат «ума», контролирующего стихийно возникающие желания «плоти», в какой-то момент оказывается невыносимо-тяжелым бременем - и происходит стремительное «падение» (воображаемое или действительное) в «простоту» первобытного зверства, которое оказывается возможным лишь в дальних диких дебрях удаленных от христианской Европы стран. Этот соблазн бегства от собственного разума испытывает герой пушкинского стихотворения «Не дай мне Бог сойти с ума...»:
Когда б оставили меня На воле, как бы резво я Пустился в темный лес! Я пел бы в пламенном бреду, Я забывался бы в чаду Нестройных, чуждых грез. И я б заслушивался волн, И я глядел бы, счастья полн, В пустые небеса; И силен, волен был бы я, Как вихорь, роющий поля, Ломающий леса.
Вероятно, нечто подобное переживал в последние дни жизни и Аркадий Иванович Свидригайлов, как известно, настоятельно желавший «лететь с Бергом на воздушном шаре в Америку».
Гумилев предпочитал в схожей ситуации - Африку:
Обреченный тебе, я поведаю О вождях в леопардовых шкурах, Что во мраке лесов за победою Водят полчища воинов хмурых, О деревнях, с кумирами древними, Что смеются улыбкой недоброй, И о львах, что стоят над деревнями И хвостом ударяют о ребра.
(«Вступление» к «Шатру»)
О «бегстве» и последующем «буколическом» пребывании в неких девственных лесных дебрях, Гумилев неоднократно упоминает в своих поздних стихах, и адрес «бегства» называет всегда один и тот же: это «страна, где светит Южный Крест» («Приглашение в путешествие»), конкретно - Мадагаскар («Мадагаскар») или же другая подобная африканская земля.
С христианской, «сотериологической» точки зрения, такая решительная «капитуляция» «ума» перед «плотью» является, конечно, страшным поражением, катастрофой. Ясное сознание этого и определяло «темную» сторону в образе Африки в гумилевском творчестве. Недаром, в уже известном нам «Разговоре», «голос земли», призывающей героя забыть о желаниях «души» и «стать снова грязным илом», т. е. вернуться к зверскому бытию, свободному от «умного» самоконтроля, называет конкретный маршрут, который нужно проделать, чтобы достичь искомого «освобождения»:
Ты можешь выбирать между Невой и Нилом Отдохновению благоприятный дом.
Все советские люди, в семьях и детских садах, в течение возростания нескольких поколений, знали рекомендацию К. И. Чуковского:
Маленькие дети, Ни за что на свете Не ходите в Африку, В Африку гулять. <...> В Африке ужасно, Да, да, да! Африка опасна, Да, да, да!
Однако, как-то никому в голову не приходило связать детские «африканские ужасы» Чуковского в «Крокодиле» и «Бармалее» с «африканскими» же страстями Гумилева - до того момента, как М. Безродный убедительно показал непосредственную связь этой темы у Чуковского с историей его общения с Гумилевым в 1914 - 1921 гг. (см.: Безродный М. Ключи сказки // Литературное обозрение. 1987. № 9. С. 62-63). И, действительно, пообщавшись с Гумилевым - если судить после непредвзятого чтения его «африканских» произведений, - можно понять, что:
В Африке ужасно, Да, да, да! Африка опасна, Да, да, да!
Причем, эта «опасность» для Гумилева заключается не столько во внешних трудностях быта, сколько во внутреннем, душевном - как то и говорилось в «Африканской охоте» - соблазне «зверства», соблазне существования в атмосфере исступленной чувственности во всех мыслимых, «девственных» ее проявлениях:
Ах, наверно, сегодняшним утром Слишком громко звучат барабаны, Крокодильей обтянуты кожей, Слишком звонко взывают колдуньи На утесах Нубийского Нила, Потому что сжимается сердце, Лоб горяч, и глаза потемнели, И в мечтах оживленная пристань, Голоса смуглолицых матросов, В пенных клочьях веселое море, А за морем ущелье Дар-Фура, Галереи-леса Кордофана, И великие воды Борну...
(«Судан»)
V
«Натурфилософская» «тайна природной стихии» превращается в православном персонализме в «сотериологическую» тайну автономного от разума могущества плоти, пораженной грехом. Суть этой тайны - одного из самых грустных открытий, которое ожидает неофита от Православия, начинающего путь сознательного воцерковления, - заключается в том, что даже полностью принявший ценности воцерковленного бытия, постигший благодатным действием Святого Духа правоту евангельских заповедей, человек оказывается не в состоянии противостоять импульсу греховных помыслов, инстинктов и желаний, понуждающих его как бы и против его собственной воли, совершать поступки, находящиеся, подчас, в вопиющем противоречии с евангельской, а иногда и с обыкновенной, человеческой моралью. Получается трагическое противоречие «духовного» и «телесного» начал в человеке, сознаваемое как «закон греха», «рабство греху», бессилие перед испорченной тлением и смертью природой. «Доколе грешник работает, подобно бессмысленному животному, во угождение греховной страсти, дотоле она молчит и как бы не существует, дает ему свободу потрясать и звенеть своими цепями, представлять из себя человека с сердцем независимым. Но едва открывается в бедном грешнике намерение разорвать свои узы и изыйти на свободу духа, тогда обнаруживается вся лютость страсти; самые малые благие помыслы воспрещаются и преследуются с ожесточением. Если грешник, несмотря на тяжесть греховной привычки, не оставляет желания освободиться от ней, то начинается брань внутренняя, самая ужасная, которая при неравенстве сил духовных, остающихся в грешнике, с силою страсти, возросшей в исполина, всегда бы оканчивалась неизбежно победою греха над пленником своим, если бы к последнему не приходила на помощь благодать Божия. Но и содействие всемогущей благодати остается нередко без успеха, потому что сам человек не дает ей всего пространства в сердце своем» (Архиепископ Иннокентий (Борисов) О грехе, его видах, степенях и состояниях. М., 1997. С. 53).
Если говорить о жизни и творчестве Гумилева, то целый ряд странных с точки зрения невоцерковленного человека стихотворений позволяют нам сделать вывод, что «брань внутренняя, самая ужасная», действительно шла в нем с начала 10-х годов.
В стихотворении «Укротителе зверей» отношения лирического героя и героини (заметим, кстати, что это единственное стихотворение Гумилева, которому предпослан эпиграф из Ахматовой) оказываются духовной трагедией, рассказ о которой изначально предполагает «нетрадиционную» с точки зрения ценителей светской любовной поэзии образность, восходящую к «бестиарной» христианской символике. Однако, эта сторона художественного мышления Гумилева мало кому была понятна - и уже для современников «Укротитель зверей» являлся не более чем «странной фантазией». Об этом, не мудрствуя лукаво, писал еще М. А. Кузмин, изящно, хотя и не очень логично, связывая сложности стихотворения Гумилева с... поэтикой акмеизма: «...Гумилеву окружающий его мир, вероятно, не представляется достаточно юным, потому что он охотно обращает свои взоры к девственным странам, где, конечно, свободнее проявлять даже те прерогативы Адама, в силу которых он дал названия животным и растениям <...> Вследствие этого желания поэт то изображает небывалых зверей.., то открывает десятую музу» (Аполлон. 1912. № 2. С. 74). Получается, что Николай Степанович, неудовлетворенный «старостью» окружающего его мироздания, произвольно фантазирует, а потом сам, как «новый Адам» - именует созданные его воображением фантомы «новыми именами». Понять его поэзию, при таком подходе, конечно, невозможно, да, впрочем, и не нужно, ибо главное в его «акмеизме» - свежесть переживания... Эта остроумная «гипотеза» Кузмина, конечно, не выдерживает критики даже если употреблять термин «акмеизм» в его расхожем и неточном значении «понятной поэзии» - в пику «туманностям» символизма. Но если мы вспомним, что под «акмеизмом» Гумилевым разумелась не просто «понятная поэтика», но поэтика, порожденная особым типом художественного мировосприятия, «воцерковленным», - и посмотрим затем на текст «Укротителя зверей» с точки зрения читателя, учитывающего образную специфику, например, «Добротолюбия» - «акмеистическая ясность» будет вполне восстановлена:
Снова заученно-смелой походкой Я приближаюсь к заветным дверям. Звери меня дожидаются там, Пестрые звери за крепкой решеткой. Будут рычать и пугаться бича, Будут сегодня еще вероломней Или покорней... не все ли равно мне, Если я молод и кровь горяча?
«Укрощение зверей», как это мы уже знаем, в «сотериологической» православной символике, означает борьбу со страстями. «Укротитель» вступает в единоборство весьма самонадеянно, ибо он «молод и кровь горяча». Впрочем, его с самого начала не покидает ощущение некоей опасности, ибо в «клетку со зверями», он вступает «заученно-смелой походкой», т. е. ощущая тайную неуверенность в своих силах.
Звери меня дожидаются там, Пестрые звери за крепкой решеткой.
Символика «пестрых зверей» также не останетсяся семантической загадкой для читателя - достаточно вспомнить «рысь - сладострастие» из уже известной нам первой песни «Ада»:
И вот, внизу крутого косогора, Проворная и вьющаяся рысь, Вся в ярких пятнах пестрого узора.
Трагедия гумилевского «укротителя зверей» в том, что, уже войдя за «заветную дверь» и оказавшись лицом к лицу с «пестрыми хищными зверями», он вдруг обнаруживает, что среди них, вполне знакомых и, потому, не очень опасных, которые, хотя и «рычат», но все же «пугаются бича», находится и еще один, неведомый «зверь», не поддающийся на уловки «укротителя»:
Только... я вижу все чаще и чаще (Вижу и знаю, что это лишь бред) Странного зверя, которого нет... Он - золотой, шестикрылый, молчащий. Долго и зорко следит он за мной И за движеньями всеми моими, Он никогда не играет с другими И никогда не идет за едой. Если мне смерть суждена на арене, Смерть укротителя, - знаю теперь, Этот, незримый для публики зверь Первым мои перекусит колени.
О чем идет речь? Какого «шестикрылого зверя» имеет в виду Гумилев?
Традиционно в комментариях к этому гумилевскому тексту, читатель отсылался к Апокалипсису: «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» (Откр 4, 7-8). Формально, коль скоро количество «крыл» и там и здесь, действительно, совпадает, подобная отсылка оправдана, по существу же - наблюдается явная несуразица.
Во-первых, Иоанн говорит о шестикрылых «животных», а в тексте Гумилева речь идет о шестикрылом «звере». Как мы уже знаем в христианской символике разница между «зверем» и «животным» весьма велика и сложно предположить, что Николай Степанович, везде неукоснительно придерживавшийся этой семантической дифференциации, в таком стихотворении как «Укротитель зверей» вдруг взял и проигнорировал ее.
Во-вторых, в «Откровении» четыре помянутых животных - суть символические изображения четырех евангелий, «взывающих» неустанно ко Господу. Почему чтение евангелия от Марка (шестикрылый лев) может произвести такое несчастное действие на лирического героя Гумилева, сражающего со страстями - «зверями» - непонятно. Скорее - наоборот, подобное мистическое явление должно было бы укрепить изнемогшего в борьбе «укротителя».
Однако, вопрос в том - только ли «Откровение» из тех источников, которые, несомненно, были знакомы Гумилеву, содержит нечто похожее на образ «шестикрылого зверя»?
И здесь вспоминается, что, в 1919 или в 1920 гг., отвечая на анкету о Некрасове, которую распространял среди посетителей «Дома Литераторов» К. И. Чуковский, Гумилев, отметивший, что лично он «очень» любит некрасовское творчество, первым в списке «лучших» стихотворений Николая Алексеевича пометил: «Дядя Влас»(см. Гумилев Н. С. Сочинения. В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 231).
Это - стихотворение о раскаявшемся грешнике, причем причиной, послужившей для обращения некрасовского «дяди Власа» к Богу явилось видение адских мучений грешников:
Мучат бесы их проворные, Жалит ведьма-егоза. Ефиопы - видом черные, И как углие глаза, Крокодилы, змии, скорпии, Припекают, режут, жгут... Воют грешники в прискорбии, Цепи ржавые грызут. Гром глушит их вечным грохотом, Удушает лютый смрад, И кружит над ними с хохотом Черный тигр - шестикрылат.
Это вообще, конечно, впечатляет, если даже такое стихотворение просто оказывается первым в списке любимейших стихов из Некрасова. Но этого мало: оказывается Николай Степанович имел странную склонность читать «Дядю Власа» наизусть на... любовных свиданиях (см.: Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 122). И вот этот «шестикрылый тигр» - само жуткое исчадие ада явилось вдруг в «клетке» со «знакомыми», так сказать, «домашними» «пестрыми зверями» - ведь, как мы помним, «сила страсти», в случаесознательного противодействия ей, «возрастает в исполина», и «всегда... оканчивается неизбежно победою греха над пленником своим» - если только на помощь погибающему не придет чудесное действие божественной Благодати.
В гумилевской лирике «акмеистического периода» иногда описываются такие переживания, драматизм которых вообще недоступен читателю, не имеющего опыта вхождения «в церковную ограду». Если в «Укротителе зверей» речь идет о метафизике сладострастия, т.е. все-таки о тех формах плотской похоти, которые привносят нравственное беспокойство в любое, сколь угодно далекое от Церкви, человеческое бытие, то ситуация, выведенная в стихотворении «Ночью» (1913), ставит «светского» читателя Гумилева в тупик.
Скоро полночь, свеча догорела. О, заснуть бы, заснуть поскорей. Но смиряйся, проклятое тело Перед волей мужскою моей. Как? Ты вновь прибегаешь к обману, Притворяешься тихим, но лишь Я забудусь, работать не стану, «Не могу, не хочу, - говоришь... Подожди, вот засну, и наутро, Чуть последняя канет звезда, Буду снова могуче и мудро, Как тогда, как в былые года».
Это, конечно, достаточно неприятные переживания, но в качестве источника трагически-напряженного пафоса, каковой, несомненно, ощущается в гумилевском стихотворении, естественная тягость бессонной ночи вряд ли может быть признана подходящей. Риторика Гумилева -
Полно. Греза, бесстыдная сводня, Одурманит тебя до утра, И ты скажешь, лениво зевая, Кулаками глаза протирая: «Я не буду работать сегодня, Надо было работать вчера» -
в этом случае оказывается неоправданной и смешной - стоит ли так разоряться, проклинать, ужасаться, когда речь идет всего-навсего о головной боли, вызванной вынужденной бессонницей? Совсем иным представляется смысл этого стихотворения, если признать, что образы «ночи», «бессонницы», «работы», «грезы - сводни», «проклятого тела», «воли» являются в устах Гумилева сотериологическими символами, обозначающими процесс духовной борьбы («брани», если говорить словами святоотеческих творений), разворачивающейся в состоянии бдения, т. е.сознательного бодрствования в целях аскетического укрощения плоти.
Борьба со сном воспринимается в аскетике Православия и как определенное духовное упражнение, и как символическое действо, несущее знание о происходящей в природе борьбе жизни со смертью и тлением. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» - говорит ученикам Спаситель во время Гефсиманской молитвы (Мф 26, 41). «Сон, - писал св. Иоанн Лествичник, - есть некое свойство природы, образ смерти, бездействие чувств. Сон сам по себе один и тот же; но он, как и похоть, имеет многие причины: происходит от естества, от пищи, от бесов, и, может быть, от чрезмерного и продолжительного поста, когда изнемогающая плоть хочет подкрепить себя сном. Как много пить зависит от привычки, так и много спать. Потому-то и должно нам, особенно в начале нашего подвига, подвизаться против сна; ибо трудно исцелить давний навык. <...> Бодрственное око очищает ум, а долгий сон ожесточает душу. <...> Бдение есть погашение плотских разжжений, избавление от сновидений, исполнение очей слезами, умягчение сердца, хранение помыслов, лучшее горнило для сварения принятой пищи, укрощение злых духов, обуздание языка, прогнание мечтаний» (Лествица, возводящая на небо, преподобного Иоанна Лествичника, игумена монахов Синайской горы. М., 1997. С. 268, 272-273). В многочисленных наставлениях Святых Отцов состояние сна, противоположное состоянию работы, труда оказывается аллегорическим противопоставлением безвольного «рабства греху» - воле ко спасению, духовному «восстанию» христианина против смерти и тления, царящего в мире. «Диавол бодрствует, никогда не отдыхает, но ходит как лев рыкающий и ищет, кого поглотить из сопротивляющихся ему. И ты всегда бодрствуй, не спи, чтобы ускользнуть от расставленных им для тебя сетей. <...> Итак, человек, не почивай, не будь беззаботен, но всегда бодр и осторожен, всегда заботлив и бдителен. Тебе предстоит одно - или победить врага, или быть побежденным, или при Боге быть, или погибнуть. Иного выбора нет. Мира и покоя в настоящей жизни никогда не найдешь, не получишь успокоения, поэтому пока жив, всегда будь готов на борьбу. Мир этот устроен не для покоя и почивания, но для труда и подвига, поэтому подвизайся, трудись, пока имеешь время. <...> Вспомни, как люди трудятся ради тленных благ, ночи не досыпают, не дают себе отдыха в торговле, в искусстве, в земледелии, в военной службе, в мореплавании, в путешествии и в разных трудах и заботах. А ты ради вечных и бессмертных благ потрудиться не хочешь, ленишься и пренебрегаешь - но воспрянь, бодрствуй!» (Свт. Дмитрий Ростовский. Уроки благочестия. М., 1997. С. 57-59).
«Бессонная ночь», в которую происходит борение «работающего» лирического героя Гумилева с «проклятым телом» - ночь бдения. Подобным же образом описывается в «Записках кавалериста» зимний ночной марш авангарда уланов. «Да, эта ночь была одной из самых трудных в моей жизни. <...> Люди засыпали на седлах, и никем не управляемые лошади выбегали вперед, так что сплошь и рядом приходилось просыпаться в чужом эскадроне. Низко нависавшие ветки хлестали по глазам и сбрасывали с головы фуражку. Порой возникали галлюцинации. <...> Эта ночь, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас понуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки:
Расцветает дух, как роза мая, Как огонь, он разрывает тьму, Тело, ничего не понимая, Слепо повинуется ему.
Мне чудилось, что я чувствую душный аромат этой розы, вижу красные языки огня» (Гумилев Н. С. Сочинения. В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 328-329).
Вообще, «бодрствование», понимаемое как победа над плотской «леностью» «проклятого тела», воплощалось в жизни Гумилева в поступки, поражавшие окружающих. Он вдруг начинает с какой-то особой ненавистью относиться к болезненности, вообще свойственной его физической натуре. Ахматова рассказывала, что «однажды Николай Степанович вместе с ней был в аптеке и получал для себя лекарство. Рецепт был написан на другое имя. На вопрос А<нны> А<ндреевны>Николай Степанович ответил: «Болеть - это такое безобразие, что даже фамилия не должна в нем участвовать». Что он не хочет порочить фамилии, подписывая ее на рецептах» (Лукницкая В. К. Материалы к биографии Н. Гумилева // Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы. Тбилиси, 1988. С. 48 (Век ХХ. Россия - Грузия: сплетение судеб)). Конечно, все мы не расположены болеть, но все-таки подобная «мистическая конспирация» - нечто выходящее из ряда вон.
Еще более впечатляющий случай противления «телесной немощи» приводит в своих воспоминаниях Г. В. Иванов, описывая визит к Гумилеву в 1913 году, перед началом этнографической экспедиции в Северную Африку. Иванов застал Николая Степановича в сильнейшем жару, бредящим о каких-то «белых кроликах», умеющих читать (доктора подозревали тиф). В минуту прояснения сознания, Гумилев, счел необходимым, не подавая руки («Еще заразишься!»), любезно попрощаться: «Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду». «На другой день, - пишет Иванов, - я вновь пришел его навестить, так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что читающие кролики, т. е. бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».
За два часа до отхода поезда Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его пытались успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось неуложенным, выпил стакан чаю с коньяком и уехал» (Иванов Г. В. О Гумилеве // Иванов Г. В. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 546-547).
Уместно вспомнить и схожее свидетельство И. В. Одоевцевой: «Гумилев действительно стыдился... своей слабости. От природы у него было слабое здоровье и довольно слабая воля. Но он в этом не сознавался никому, даже себе.
- Я никогда не устаю, - уверял он. - Никогда.
Но стоило ему вернуться домой, как он надевал войлочные туфли и садился в кресло, бледный, в полном изнеможении. Этого не полагалось замечать, нельзя было задавать ему вопроса:
- Что с вами? Вам нехорошо?
Надо было просто «не замечать», взять книгу с полки или перед зеркалом «заняться бантом», как он говорил.
Длились такие припадки слабости всего несколько минут. Он вставал, отряхивался, как пудель, вылезший из воды, и как ни в чем не бывало продолжал разговор, вызванный его полуобморочным молчанием» (Одоевцева И. В. На берегах Невы. М.. 1988. С. 79).
Духовную необходимость подобного физического усилия Гумилев пояснил в стихотворении «Снова море»:
Солнце духа, ах, беззакатно, Не земле его побороть, Никогда не вернусь обратно, Усмирю усталую плоть, Если Лето благоприятно, Если любит меня Господь.
VI
Гумилевское творчество, отразившее личный православный сотериологический опыт поэта, знакомило читателей с совершенно иной моделью взаимоотношения «человеческого» и «природного» начал в мироздании, нежели та, которую исповедовала натурфилософия конца Х1Х - начала ХХ вв.
Здесь - как в России, так и в Европе, - еще со времен Ж. - Ж. Руссо и «руссоистов» был усвоен взгляд, согласно которому история человечества являлась ни чем иным, как постепенным «выпадением» из биоценоза под воздействиемхристианства, технократизмаи цивилизации. Получалось, что христианская проповедь порождала культуру, отрицающую все проявления «стихии» в человеке; наука и техника дополняла этот процесс созданием способов созидательной деятельности, которые преодолевали мощь природной необходимости, а цивилизация диктовала формы гуманистического жизнеустроения, противоречащие естественной регуляции биологического вида, основанной на борьбе за существование. В итоге произошел качественный «скачок истории», разорвавший «связь времен». «Цивилизованный европеец» был объявлен победителем природы, а нынешнее существование его - «неестественным», т. е. упраздняющим в самих основах своих «биологическое» начало человеческого существа.
«Победа европейской цивилизации над природой» не вызывала, впрочем, у большинства мыслителей Х1Х века восторга. На все лады повторялась мысль о том, что человек, разорвав «связь с природой», утратил особую «витальную энергию», которая одна только и может обеспечить нормальную творческую деятельность; из этого делался вывод о противостоянии архаики и современности как о противостоянии «культуры» и «цивилизации». В канун научно-технической революции, в 1870-е - 1880-е годы проповедь «возвращения к природе» получила в культуре Европы свое высшее, гениальное выражение в творчестве Фридриха Ницше, для которого преодоление «человеческого, слишком человеческого» во имя природной целесообразности общественного бытия в будущем было единственной «сверхзадачей», от решения которой сейчас зависит грядущее существование людей как биологического вида. Ницше гипнотизировал читателей жуткими картинами близкой евгенической катастрофы: «Люди недостаточно возвышенного и твердого характера для того, чтобы работать над человеком в качестве художников; люди, недостаточно сильные и дальновидные для того, чтобы решиться на благородное самообуздание и дать свободу действия тому первичному закону природы, по которому рождаются и гибнут тысячи неудачных существ; люди, недостаточно знатные для того, чтобы видеть резкую разницу в рангах людей и пропасть, отделяющую одного человека от другого, - такие люди с их «равенством перед Богом» управляли до сих пор судьбами Европы, пока, наконец, не появилась взлелеянная их стараниями, измельчавшая, почти смешная порода, какое-то стадное животное, нечто добродушное, хилое и посредственное - нынешний европеец...» (Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 290). Мощь ницшевской проповеди оказалась такова, что сама идея«биологической недостаточности» в современной жизни стала аксиоматичной для большей части мыслителей эпохи. И хотяНицше с его неприкрытым радикальным антихристианством, был неприемлем, например, для Владимира Соловьева или Толстого, но объективно как тот, так и другой в полной мере отдали дань «ницшеанству»: один - проповедуя «космизм», а другой - призывая «опростится», - ибо оба полагали движение к «природе» непременным условием совершенствования человеческого бытия. Вообще, у тогдашней творческой интеллигенции создавалось впечатление, что «природная стихия» если и не умерла для современного «цивилизованного» человека, то, по крайней мере, стала настолько отчуждена от него, что само «причастие» к ее проявлением должно рассматриваться как нечто редкое и ценное.
В раннем «декадентском» творчестве Гумилева, под воздействием общего стремления к «стихийной естественности» бытия, особое внимание обращено на возможность «нисхождения в хаос». Так, например, классические образы мировой истории и культуры с легкостью участвуют здесь в «анималистической» поэтической игре, воскрешающей в памяти произведения Овидия и Апулея. Клеопатра, например, уподобляется, волею юного Гумилева, гиене, которая скачет по заброшенной могиле знаменитой царицы, торжествующе воя:
«Смотри, луна, влюбленная в безумных, Смотрите, звезды, стройные виденья, И темный Нил, владыка вод бесшумных, И бабочки, и звезды, и растенья. Смотрите все, как шерсть моя дыбится, Как блещут взоры злыми огоньками. Не правда ль, я такая же царица, Как то, что спит под этими камнями? В ней билось сердце, полное изменой, Носили смерть изогнутые брови, Она была такою же гиеной, Она, как я, любила запах крови».
(«Гиена»).
Брунгильда из «Песни о Нибелунгах» побеждает Зигфрида («Поединок»), ночью пробирается к мертвому телу, сладострастно целует холодные кровавые раны, а уж за ней
...ползет в тумане Нетерпеливо-жадный волк.
Впрочем и сам лирический герой раннего Гумилева не застрахован от «зоологических» метаморфоз:
Превращен внезапно в ягуара, Я сгорал от бешеных желаний, В сердце - пламя грозного пожара, В мускулах - безумье содроганий. И к людскому крался я жилищу По пустому сумрачному полю Добывать полунощную пищу, Богом мне назначенную долю.
Превращение человека в зверя, обнаруживающее присутствие «стихии» в его природе, у раннего Гумилева вовсе не является сколь-нибудь трудной задачей, напротив, взгляд художника с легкостью прозревает «зверя» в человеке, что и подтверждается целым рядом «анималистических» метафор: «Кроткая Ева, игрушка богов» превращается в «молодую тигрицу» («Сон Адама»), нежная восточная царица - в «пантеру суровых безлюдий», причем ее похотное зверство таково, что даже варвары предпочли убраться восвояси, так и не попробовав ее прелестей («Варвары»), а лирический герой, придя на свидание, находит «голову гиены на стройных девичьих плечах» («Ужас»). Другое дело, что пробуждающееся в человеке при самом малом «внешнем» толчке «зверство» настолько эстетически (об этике у юного Гумилева речь еще не идет) непереносимо, что возможными становятся самые кровавые развязки в духе «Африканской охоты» (еще не написанной): так в рассказе «Черный Дик» «веселый малый», герой рассказа, охваченный необоримым плотским вожделением, пытается изнасиловать малолетнюю бродяжку-сироту и превращается затем в животное, которое забивают железными баграми его же собутыльники - рыбаки: «Мы приблизились к разбившейся <девочке> и вдруг отступили, побледнев от неожиданного ужаса. Перед ней, вцепившись в нее когтистыми лапами, сидела какая-то тварь, большая и волосатая, с глазами, горевшими, как угли. С довольным ворчанием она лизала теплую кровь, и, когда подняла голову, мы увидели испачканную пасть и острые белые зубы, в которых мы не посмели признать зубы Черного Дика. С безумной смелостью отчаянья мы бросились на нее, подняв багры. Она прыгала, увертывалась, обливаясь кровью, злобно ревела, но не хотела оставлять тело девочки. Наконец, под градом ударов, изуродованная, она свалилась на бок и затихла, и тогда лишь, по обрывкам одежды, могли мы узнать в мертвом чудовище веселого товарища - Черного Дика»(см.: Гумилев Н. С. Сочинения. В 3 т. М., 1991. Т. 2. С. 210-217).
Если даже «ранний» Гумилев не испытывает, подобно своим «учителям» - символистам и «декадентам» - тоску по «утраченному хаосу», то, тем более «поздний» Гумилев, Гумилев - акмеист, лишен каких-либо иллюзий, относительно «натурфилософского» благополучия современной «цивилизации». С момента усвоения им основ православной антропологии он вполне принимает главную идею ее: люди в настоящем есть почти звери, и весь вопрос заключается только в том, насколько стеснено в настоящий момент это неизбывное «зверство». Еще до войны 1914 г. (не говоря о революции), он приходит к печальному выводу, что стихийная дикость в современной Европе, хотя и приглушенная слегка сверхъестественным, героическим усилием европейской цивилизации, мало чем отличается от архаического варварства:
Все проходит, как тень, но время Остается, как прежде, мстящим, И былое, темное бремя Продолжает жить в настоящем. Сатана в нестерпимом блеске, Оторвавшись от старой фрески, Наклонился с тоской всегдашней Над кривою пизанской башней, -
а в «Гондле», написанной уже в самый разгар «военной грозы», выводит с особой стилистической яркостью метаморфозы, объясняющие сколь мало люди, охваченные темными страстями, отличаются от волков:
Снорре
Брат, ты слышишь? Качается вереск, Пахнет кровью прохлада лугов.
Груббе
Серый брат мой, ты слышишь? На берег Вышли козы, боятся волков.
Снорре
Под пушистою шерстью вольнее Бьется сердце пустынных владык.
Груббе
Зубы белые ранят больнее Крепкой стали рогатин и пик.
Лагге
Надоели мне эти кафтаны! Что не станем мы сами собой? Побежим, побежим на поляны, Окропленные свежей росой.
Ахти
Задохнемся от радостной злости, Будем выть в опустелых полях, Вырывать позабытые кости На высоких, могильных холмах.
Ницше говорил (а «ницшеанцы» повторяли бессчетное количество раз), что европеец конца столетия окончательно «превратился в наслаждающегося и бродячего зрителя и переживает такое состояние, из которого даже великие войны и революции могут вывести его разве на одно мгновение» (Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 186). В «Заратустре» выведен комический образ «моргающего человечка», знаменующего итог развития современной цивилизации: «Смотрите! Я показываю вам последнего человека.
«Что такое любовь? Что такое творение? Устремление?» - так вопрошает последний человек и моргает.
Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех.
«Счастье найдено нами», - говорят последние люди и моргают.
Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им необходимо тепло. Также любят они соседа и жмутся к нему, ибо им необходимо тепло.
Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом: ибо ходят они осмотрительно. Одни безумцы еще спотыкаются о камни или о людей!
От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть.
Они еще трудятся, ибо труд - развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их.
Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И повиноваться? То и другое слишком хлопотно.
Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует себя иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.
«Прежде весь мир был сумасшедшим», - говорят самые умные из них и моргают.
Все умны и знают все, что было; так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся - иначе это расстроило бы желудок.
У них есть свое удовольствиеце для дня и свое удовольствиеце для ночи; но здоровье - выше всего.
«Счастье найдено нами», - говорят последние люди и моргают» (Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 12).
Сложно судить, насколько Гумилев принимал этот ницшевский портрет «последнего европейца», однако не вызывает сомнений, что к данной характеристике у Николая Степановича, обогащенного опытом 1914 - 1917 гг., было существенное добавление: «моргающий человечек» современности был, возможно, добр, сентиментален, жалок, убог, труслив, но вот «великие войны и революции» смогли «вывести его из себя» отнюдь не «на одно мгновение», а весьма надолго.
В 1916 году у Гумилева появилась своя художественная версия «моргающего человечка» - современного европейца: стихотворение «Рабочий».
Он стоит пред раскаленным горном, Невысокий старый человек. Взгляд спокойный кажется покорным От миганья красноватых век.
Если учесть, что «Заратустру» Гумилев еще в 1903 году зачитал до дыр, а потом неоднократно возвращался к этой книге на протяжении всей жизни (в 1920 году он подарил свой экземпляр философского романа Ницше И. В. Одоевцевой, снабдив его назидательной надписью из «Бориса Годунова»: «Учись мой сын: наука сокращает Нам опыты быстротекущей жизни» - см.: Одоевцева И. В. На берегах Невы. М., 1988. С. 52), - то нельзя объяснить появление такой детали в портрете «рабочего» случайной прихотью автора. Здесь поэтическое совпадение с Ницше не только по форме, но и по существу: «моргающим» герой выведен и там, и здесь, именно для того, чтобы подчеркнуть его «покорность», личностное убожество, мещанскую скудость его бытия. Гумилевский рабочий - один из представителей «неистребимого рода земляных блох, который живет дольше всех»; по крайней мере, образ, выведенный в стихотворении вполне органично дополняется ницшевской иронией: «Что такое любовь? Что такое творение? Устремление?» - так вопрошает последний человек и моргает. У него, как и у всех «есть свое удовольствиеце для дня и свое удовольствиеце для ночи; но здоровье - выше всего». «Удовольствиеце» для ночи помянуто и в стихотворении Гумилева:
Кончил, и глаза повеселели. Возвращается. Блестит луна. Дома ждет его в большой постели Сонная и теплая жена.
Впрочем, если «ночное удовольствиеце» гумилевского рабочего вполне согласно с ницщевскими характеристиками «земляной блохи», то «удовльствиеце дневное» оказывается в трактовке Гумилева несколько иного рода:
Все он занят отливаньем пули, Что меня с землею разлучит.
«Рабочий» Гумилева - убийца.
Долго, упорно, тщательно он выковывает смерть своему врагу, эта работа захватывает его, так что он утрачивает контроль за временем:
Все товарищи его заснули, Только он один еще не спит...
«Моргающий» герой Гумилева переживает немой, «дионисийский», садистический экстаз, загодя предвкушая страдания и смерть жертвы, он охвачен отблесками «красного пламени», которое оказывается символическим обозначением снедающей его животной страсти:
Пуля, им отлитая, просвищет Над седою, вспененной Двиной, Пуля, им отлитая, отыщет Грудь мою, она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую, Прошлое увижу наяву, Кровь ключом захлещет на сухую, Пыльную и мятую траву.
«Это сделал в блузе светло-серой Невысокий старый человек» - четко подтверждает в финале стихотворения Гумилев; подобное «уточнение» вообще оказывается непонятным без учета ницшевской версии «моргающего человечка».
Для романтика Ницше «воля к власти», доходящая в высшем своем развитии до сладострасного садизма, не имеющего никакой иной причины, кроме «биологического» выражения «витальной энергии», всегда являлась признаком «избранных», «аристократических» натур - Александра, Тиберия, Цезаря Борджа, Наполеона. Склонность к «преступлению» рассматривается Ницше, вставшего «по ту сторону добра и зла», как удел немногих, «избранных», богато биологически одаренных людей, которые не могут сдержать свои инстинктивные порывы и, потому, бросают вызов «слабым», «неудачным» человеческим существам. «Этот более ценный тип уже существовал нередко, - писал Ницше в «Антихристианине», - но лишь как счастливая случайность, как исключение, - и никогда как нечто преднамеренное. Наоборот, его боялись больше всего; до сих пор он внушал почти ужас, и из страха перед ним желали, взращивали и достигали человека противоположного типа: типа домашнего животного, стадного животного, больного животного...» (Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 634). Таким образом, «преступник» у Ницше - это либо потенциальный Цезарь, либо несостоявшийся Бонапарт. И, напротив, «земляная вошь», «моргающий человечек» не может быть «преступником» ибо в нем нет, по мнению Ницше, «воли к власти» - она просто «биологически» не может развиться в хилом, тщедушном существе современного европейского мещанина. «Моргающие человечки» разучились «спотыкаются о камни или о людей» - это удел «безумцев», а «последний человек» «типа домашнего животного, стадного животного, больного животного» «ходит осмотрительно».
«Но это сделал не Цезарь или Наполеон, это сделал в блузе светло-серой невысокий, старый человек», - возражает Гумилев, описывая «смертную тоску» и «хлещущую ключом на сухую, пыльную и мятую траву» кровь.
Вот тебе и «больное животное»!
Ницше мечтал о создании, взращивании «сверхчеловека», который найдет в себе силы «встать по ту сторону добра и зла», наплевать на «ханжество» христианской морали «мигающих человечков» и наслаждаться сильными переживаниями, возникающими в ходе борьбы за существование. Но опыт 1914 - 1918 гг. показал: никого «взращивать» специально и не надо - и в Европе, и в России и так одни «сверхчеловеки», причем самые добрые и тихие «моргающие человечки», сентиментальные немецкие рабочие и благодушные русские мужички, дорвавшись до оружия и понюхав крови, без всякой подсказки «ницшеанцев» впадают в такой «дионисийский экстаз», который и не снился интеллигентам, вздыхающим о «гибели стихийной природы».
Таинственную «механику» подобной «зоологической метаморфозы» приоткрывает гумилевское стихотворение, созданное под впечатлением, действительно, удивительных событий марта 1917 года, связанных с именем Григория Ефимовича Распутина.
Почти сразу после падения монархии, в Царском Селе, в тайном склепе, устроенном под одной из беседок, солдаты царскосельского гарнизона обнаружили саркофаг с набальзамированным телом Распутина (его предполагали впоследствии перезахоронить в специально построенном монастыре). Красногвардейцы извлекли гроб из саркофага, и на грузовике, доставили в Петроград. Здесь, тело «старца» возили по городу, периодически устраивая акции поругания. Это вызывало большой интерес толпы, причем возбуждение людей было таково, что потребовалось особое вмешательство сил Временного Правительства по пресечению возникших беспорядков. В конце концов, 9 (22) марта 1917 г. останки Распутина привезли в Парголовский лес и сожгли.
«Посмертная казнь» Распутина, происходившая таким странным образом, открыла период какого-то массового безумия, которое охватило Петроград с весны до осени 1917 г. Многочисленные мемуаристы, описывая эти роковые дни, в один голос утверждают, что это был род коллективной истерии, заразившей как правящую тогда элиту, так и народные массы, регулярно устраивавшие всевозможные демонстрации, шествия и т. п. То, что весна и лето 1917 года в Петрограде проходили «под знаком Распутина» отмечал и такой чуткий «свидетель истории» как Александр Александрович Блок. «Опущусь, - пишет Блок в дневнике 22 мая 1917 года, - и сейчас же поднимается этот сидящий во мне Р<аспутин>... Все они - живые и убитые дети моего века сидят во мне» (Блок А. А. Записные книжки. М., 1965. С. 342). «Ночь, как мышь, юркая какая-то... - читаем далее в записи от 13 июля, - пахнет дымом и какими-то морскими бочками, глаза мои как у кошки, сидит во мне Гришка... и жить люблю, а не умею...» (Блок А. А. Собрание сочинений. В 7 т. М., 1963. Т. 7. С. 287).
Гумилев, находившийся в дни «распутинской» посмертной эпопеи в госпитале, был, по видимому, одним из немногих (если не единственным) из русских литераторов «первого ряда», не утративших способность трезво воспринимать происходящее. Разумеется, он был в курсе всех событий, ибо в госпитале его активно посещали друзья и знакомые (у него было воспаление легких). Гумилева поразило точное соответствие расправы с трупом Распутина и таинственных последствий ее - тому магическому действу, которое практиковалась в древних дионисийских мистериях, без сомнения, многократно помянутых во время бесед с Вяч. И. Ивановым на «башне», в добрые старые годы, перед «акмеистическим бунтом».
«Бога страдающего вечная жертва и восстание вечное - такова религиозная идея дионисова оргиазма, - писал Вяч. И. Иванов в своей статье о Ницше и Дионисе, - ...В общенародном, натуралистически окрашенном веровании он - бог умирания мученического и сокровенной жизни в чреватых недрах смерти, и ликующего возврата из сени смертной, «возрождения», «паллигинесии». <...> Он был благовестием радостной смерти, таящей в себе обеты иной жизни там, внизу, и упоенных упований жизни здесь, на земле» (Иванов Вяч. И. По звездам. СПб, 1909. С. 7-10). Отсюда и мистическая символика многочисленных мистерия - «разрывание» некоего вещества (хлеба, винограда и т.п.) и, затем «причащение» содержащейся в нем силе через «вкушение», «пожирание» - то, что дало самому Иванову повод видеть в дионисийских таинствах прообраз Тайной Вечери (см.: Иванов Вяч. И. Дионис и прадионисийство. М., 1995).
Вопрос в том, чему причащались «терзающие» тело «Диониса»-Распутина петроградские революционные «мэнады»?
В стихотворении Гумилева «Мужик» (1917) года нарисована картина распространения «зверства», подобная схеме расхождения концентрических кругов на воде, или образу распространения эпидемии.
В чащах, в болотах огромных, У оловянной реки, В срубах мохнатых и темных Странные есть мужики. Выйдет такой в бездорожье, Где разбежался ковыль, Слушает крики Стрибожьи, Чуя старинную быль. С остановившимся взглядом Здесь проходил печенег... Сыростью пахнет и гадом Возле мелеющих рек.
«Странность» гумилевского «мужика» в том, что он, пока еще единственный из всего множества русских и мировых «мужиков» вдруг услышал зовущий голос «зверства», т. е. нечто подобное «леопардовскому» зову, который затем будет раздаваться и в ушах лирического героя Гумилева:
Брат мой, враг мой, ревы слышишь?..
Но в «мужике» нет никаких личностных, христианских сил для того, чтобы сопротивляться этому, непонятно зачем и как явившемуся «зову стихии» - «зову зверя». Он - прост и убог, и легок на ногу, как в «печенежью», так и в настоящую, «цивилизованную» эпоху -
Вот уже он и с котомкой, Путь оглашая лесной Песней, протяжной, негромкой, Но озорной, озорной. Путь этот - светы и мраки, Посвист разбойный в полях, Ссоры, кровавые драки В страшных, как сны, кабаках. В гордую нашу столицу Входит он - Боже, спаси! - Обворожает царицу Необозримой Руси.
«В этих словах, четырех строках, - писала о последнем четверостишии М. И. Цветаева, - все о Распутине, Царице, всей этой туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы. <...> А если есть в стихах судьба - так именно в этих, чара - так именно в этих, История... - так именно в этих. Ведь это и его, Гумилева, судьба входила в тот день и час входила в сапогах или валенках (красных сибирских «пимах») пешая и неслышная по пыли и снегу. <...> Дорогой Гумилев, есть тот свет, или нет, услышьте мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам - как писать стихи, историкам - как писать историю.
Чувство Истории - только чувство Судьбы» (Николай Гумилев: pro et contra. СПб., 1995. С. 486-487).
Исходя из сказанного Цветаевой, можно понять, что главный смысл «урока», который Гумилев, по мнению Марины Ивановны преподнес, написав «Мужика», историкам, заключается в изображении исторических сил, не поддающихся рациональной трактовке, «стихийных», вдруг пробуждающихся в каком-то безвестном «мужике» и, затем, подобно чумной заразе, распространяющихся в огромном количестве почти одновременно «звереющего» народа:
Над потрясенной столицей Выстрелы, крики, набат; Город ощерился львицей, Обороняющей львят.
Явление Распутина в «гордой столице» («две - славные, одна - гордая; ошибиться невозможно», - писала Цветаева), действительно, сопровождалось обстоятельствами, необъяснимыми с точки зрения социальной и политической необходимости. Сотни и тысячи людей, которые встречались на его пути - от самой «Царицы необозримой Руси», которая расчесывала ему волосы и аристократок, отдававшихся ему в банных кабинетах до красногвардейцев, расчленявших в гробу штыками его мертвую плоть, - были едины в желании осязать Распутина, хотя бы на мгновение чувственно соединиться с ним (способы этого «осязания» были, в общем, не очень важны). В трактовке Гумилева, подобный «фетишизм» является выражением неутолимого, свойственного каждому человеку во все времена, желания «освобождения» от гнета душевного «ума» в зверском оргийном экстазе:
Надоели мне эти кафтаны! Что не станем мы сами собой? Побежим, побежим на поляны, Окропленные свежей росой... Задохнемся от радостной злости, Будем выть в опустелых полях, Вырывать позабытые кости На высоких, могильных холмах.
Этот тоскливый и страстный «волчий вой» пораженной грехом плоти - от раннего европейского средневековья, изображенного в «Гондле», до русской революции конца 1910-х годов, - всегда и везде был настолько силен, что достаточно было одной искре, одному «веселому мужику» явиться в любой «гордой столице» любого, самого цивилизованного и самого «христианского» государства, как явление его, подобно детонации взрывного заряда, отзывалось в миллионах:
Что ж, православные, жгите Труп мой на темном мосту, Пепел по ветру пустите... Кто защитит сироту? В диком краю и убогом Много таких мужиков. Слышен по вашим дорогам Радостный гул их шагов.
Явление Распутина - отнюдь не только «российский» феномен, но некий «универсальный» сюжет истории человечества, схожий с чумными эпидемиями средних веков, также не разбирающими границы и нации. Любая страна, вдруг, внезапно может «полыхнуть» взрывом исступленного неосознанного зверства, который воплощается в военное или революционное насилие, равно необъяснимое требованиями разума. Гумилев сравнивал это с картиной ладожского ледохода, который является, обычно, на Неве уже после установления весенней жары, как бы внезапно возвращая зиму среди цветущей уже природы. Зрелище это, знакомое каждому петербуржцу, действительно страшное и, так сказать, фантастическое:
Уж одевались острова Весенней зеленью прозрачной, Но нет, изменчива Нева, Ей так легко стать снова мрачной. Взойди на мост, склони свой взгляд: Там льдины прыгают по льдинам, Зеленые, как медный яд, С ужасным шелестом змеиным. Географу, в час трудных снов, Такие тяготят сознанье - Неведомых материков Мучительные очертанья.
Стихотворение «Ледоход» написано сразу, вслед за «Мужиком», в марте-апреле 1917 года. Этот исторический контекст объясняет странную метафору, возникающую при созерцании движущегося по Неве «зеленого» ладожского льда:
Так пахнут сыростью гриба, И неуверенно, и слабо, Те потайные погреба, Где труп зарыт и бродят жабы.
В Петрограде, в марте-апреле 1917 г. «потайной погреб, где зарыт труп» был известен только один - это раскрытое красногвардейцами последнее царскосельское убежище Распутина.
Слепое и страшное движение «прыгающих» друг на друга ладожских льдин ассоциировалось в сознании Гумилева с безумным движением мечущихся по петроградским улицам «оргийных», революционных толп, глумящихся над набальзамированными останками «старца» и пораженных затем распутинским «озорным» безумием. Как то, так и другое зрелище являло образ грандиозного пробуждения природных стихийных сил и, потому, было тягостно для разумного восприятия:
Река больна, река в бреду...
Однако то, что порождало в людях в марте-апреле 1917 г. «горестное недоумение» (см.: Павловский А. И. Николай Гумилев // Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы. Л. 1988. С. 50), вызывало полное понимание и радостное ликование в зверях:
...Одни, уверены в победе, В зоологическом саду Довольны белые медведи. И знают, что один обман - Их тягостное заточенье: Сам Ледовитый Океан Идет на их освобожденье.
Трагическое откровение гумилевского «Ледохода» современники не поняли. Вас. В. Гипииус, процитировав стихи о «белых медведях в зоопарке», которые ликуют в момент ладожского ледохода 1917 г., писал: «Не правда ли, прочитав эти строки, нельзя удержаться от улыбки - но не насмешливой, а ласково-поощрительной, чуть ли ни такой, какой мы встречали наиболее удачные словосочетания Игоря-Северянина? Гумилев не такой озорник, как Северянин, он не все, а только кое-что приносит в жертву остроте и пряности... <...> Гумилев - облагороженный Северянин, или Северянин - опошленный Гумилев, как угодно» (Гиппиус Вас. В. Пряники // Николай Гумилев: pro et contra. СПб, 1995. С. 479-480 (Русский путь)). Увы! Никакой «остроты и пряности» здесь нет, и улыбаться, ни «насмешливо», ни «ласково - поощрительно» здесь нечему. Все гораздо проще и страшнее. То, что виделось современникам сложным ходом исторического развития России, для Гумилева было просто превращением «истории» в «зоологию». И предсказать или предвидеть этот всплеск «зоологических» страстей не мог никто, ибо тезис о «смерти стихии», о «победе человека над природой» в эпоху «цивилизации» - не более чем эффектная сентенция.
Никакой «победы над природой» человек не одерживал, и никогда одержать не сможет. Ибо «природное тело», которым он облечен после грехопадения - «тело смерти».
VII
Следует, впрочем, особо подчеркнуть, что переживание в «натурфилософских» произведениях Гумилева природного материального бытия - и внешнего, и своего собственного - как тления во времени «тела смерти», не должно заслонять своей трагической остротой другое, противоположное, переживание, ведущее к утверждению природы как творения Божьего, несущего, даже в нынешнем, недолжном и недостойном состоянии, черты первобытного совершенства. Как уже говорилось выше, православная аскетика, на которую ориентируется, выстраивая свою «натурфилософию», Гумилев, видит в идее «умерщвления плоти» диалектическое признание ее «божественной славы». Диалектика проста: аскетическое отрицание «тела смерти» - хотя и суровое, но все же ни что иное, как лечение; вылечить же можно только то, что изначально было здорово и еще имеет шансы вернуться к здравому бытию. Более того, сама суровость православной аскетической практики, парадоксально свидетельствует о сохранившемся здесь «натурфилософском оптимизме», об очень оптимистическом в основании своем взгляде на тварное мироздание. Ни один врач, не веря в возможное выздоровление больного, и, тем более, не видя реальных путей к этому выздоровлению, не будет отягощать смертные страдания обреченного пациента и навязывать ему болезненные процедуры. Если никакой надежды нет - все врачебные методики будут направлены только на то, чтобы, облегчить агонию. И, напротив, чем выше будет у врача убежденность в благополучном исходе, тем требовательнее и «беспощаднее» будут его предписания.
Христианский персонализм, отрицающий «божественность» и «духовность» космоса и открыто требующий в аскетике решительной борьбы со стихиями и изменения природного бытия волей человека, при всем внешнем «антиэкологизме», дает человеку основание для подлинной любви к природе. Природное мироздание - творение Бога, и в этом качестве оно не может быть враждебно по отношению к человеку. Губительное буйство стихий, равно как и самая смерть - болезненные аномалии, следствия общей «болезни греха», внесенной в мир падением прародителей. Но даже и в этом состоянии, в бытии природы наступают периоды «просветления», напоминающие человеку о первозданной благости ее по замыслу Творца. Это - периоды молчания стихий, тишина. В отличие от языческого миросозерцания, которое тяготеет в «натурфилософии» к динамическим образам стихийных возмущений, иллюстрирующих наличие в мироздании «хаоса», христианство опознает «метафизически ценными» именно природный покой: «...Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веянье тихого ветра» (3 Цар 19, 11-12). Ветхозаветные пророки учат, что, после всех ужасов, которые будут сопровождать движение Израиля к Богоявлению, собственно эпифания, непосредственная встреча Бога с людьми, произойдет в идеальной «тишине»: «не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст его услышать на улицах; трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит» (Ис 42, 2-3). «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» - будят ученики спящего Иисуса, переправляясь во время бури через Гениссаретское озеро. «И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? И убоялись страхом великим и говорили меж собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются ему» (Мк 4, 38-41). Если обычное созерцание разъяренной природной стихии приносит «метафизическую» пользу, напоминая человеку о его греховном несовершенстве и об отпадении от воли Творца, то в самый момент эпифании «голос природы» уже излишен, не нужен, он может быть просто «запрещен» чудесным образом. «И сделалась великая тишина». Природа не нужна для непосредственного общения Бога с человеком. Никаких «своих слов» в этом диалоге у нее нет.
Минуты «тишины», случающиеся в природе, опознаются в христианской культуре как символические картины, напоминающие о незримом присутствии Творца. «Для христианина природа не замыкает в себе Бога, но указывает на Него. Вот блаженный Августин, ища Христа, проходит в мире школу богословия: «А что же такое этот Бог? Я спросил землю, и она сказала: «это не я»; и все, живущее на ней, исповедало то же. Я спросил море, бездны и пресмыкающихся, живущих там, и они ответили: «мы не бог твой: ищи над нами». Я спросил у веющих ветров, и все воздушное пространство с обитателями своими заговорило: «ошибается Анаксимен: я не бог». Я спросил небо, солнце, луну и звезды: «мы не бог, которого ты ищешь» - говорили они. И я сказал всему, что обступает двери плоти моей: «скажите мне о Боге моем - вы ведь не бог, - скажите мне что-нибудь о Нем». И они вскричали громким голосом: «Творец наш, вот Кто Он». Мое созерцание было моим вопросом: их ответом - их красота»» (Диакон Андрей Кураев. Христианская философия и пантеизм. М., 1997. С. 119).
Именно эта «тайна природы» - способность ее в определенных состояниях - напоминать о Творце, - и присутствует в «натурфилософии» Гумилева. Он никогда не забывает том, что за «безбожным», стихийным, «греховным» состоянием мироздания, скрывается идеальный образ первозданного рая:
Так вот и вся она, природа, Которой дух не признает, Вот луг, где сладкий запах меда Смешался с запахом болот; Да ветра дикая заплачка, Как отдаленный вой волков; Да над сосной курчавой скачка Каких-то пегих облаков.
Стихотворение «Природа» начинается с изображения «хаотического», разрываемого всевозможными противоречиями тварного мироздания, открывающегося лирическому герою при созерцании «убогого», дисгармоничного пейзажа. Однако, уже с первых стихов нам становится известно, что таковой является природа только в состоянии, которое «не признает дух», т. е. которое поражено грехом, отчуждающим тварь от Творца. Сознание недолжного положения природы возмущает лирического героя, который видит в природном «убожестве» - поругание первоначального Божественного замысла о ней:
Я вижу тени и обличья, Я вижу, гневом обуян, Лишь скудное многоразличье Творцом просыпанных семян.
Заметим, что переживание «гнева», при виде искажения творения под воздействием греха - стандартное состояние, описываемое в аскетических сочинениях, как побудительный мотив, открывающий для неофита «узкий путь» спасения. Этот «гнев» восходит к евангельской «ревности» Спасителя, при виде торговцев в иерусалимском Храме: «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что написано: «ревность по доме Твоем снедает Меня» (Ин 2, 13-17). У Матфея слова Христа переданы в еще более жесткой форме: «И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф 21, 13). Но все тварное мироздание созидалось Творцом, как Храм, где человек мог бы возносить Ему молитвы; однако, волею падших людей этот природный Храм сделался «вертепом разбойников», низвергся в пучину зверства, тления и смерти. Отсюда и «возмущение», «восстание» в пафосе православного аскетизма, как бы поднимающего «бич Господень» против царствующего в мире и уродующего мир греха. Но отрицание греха не упраздняет здесь утверждения природы в качестве Храма, хотя и поруганного. «Уничиженное» состояние природы не заслоняет перед взором лирического героя Гумилева ее сущностной «литургийности»:
Земля, к чему шутить со мною: Одежды нищенские сбрось И стань, как ты и есть, звездою, Огнем пронизанной насквозь!
«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся», - говорит Господь ученикам (Лк 12, 49). «Огнем», пронизывающим тварную материю, открытую навстречу Богу, христианские мыслители традиционно называют благодатное действие Святого Духа, поскольку именно этим образом оно описано в изображении Пятидесятницы (Деян 2, 3). Земная природа предназначена к тому, чтобы быть «звездою, огнем пронизанной насквозь», т. е. быть «обоженой», открытой навстречу Творцу, ее нынешнее «убогое» состояние зверства - лишь «нищенские одежды», силою случая напяленные на нее.
Уже в раннем творчестве Гумилева мы встречаемся с переживанием природного «покоя» как повода к ощущению Богоприсутствия, повода к молитве:
Солнце скрылось на западе За полями обетованными, И стали тихие заводи Синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, Пролетела летучая мышь, Рыба плеснула в омуте... ...И направились к дому те, У кого есть дом С голубыми ставнями, С креслами давними И круглым чайным столом. Я один остался на воздухе Смотреть на сонную заводь, Где днем так отрадно плавать, А вечером плакать, Потому что я люблю Тебя, Господи.
(«Заводи», 1908).
Антитезой ужасам «Африканской охоты» в гумилевском творчестве начала 1910-х гг. является описание «Рождества в Абиссинии», когда «звери» в Святую Ночь превращаются вновь в «животных»:
Месяц встал; ну что ж, охота? Я сказал слуге: «Пора! Нынче ночью у болота Надо выследить бобра». Но, осклабясь для ответа, Чуть скрывая торжество, Он воскликнул: «Что ты, гета, Завтра будет Рождество. И сегодня ночью звери: Львы, слоны и мелкота - Все придут к небесной двери, Будут радовать Христа. Ни один из них вначале На других не нападет, Ни укусит, ни ужалит, Ни лягнет и ни боднет. А когда, людьми не знаем, В поле выйдет Светлый Бог, Все с мычаньем, ревом, лаем У его столпятся ног. Будь ты зрячим, ты б увидел Там и своего бобра, Но когда б его обидел, Мало было бы добра». Я ответил: «Спать пора!»
Рождественская ночь - самое яркое выражение той возможности «преображения природы» в «звезду пронизанную насквозь» огнем Святого Духа из убогой больной в «нищенских одеждах» греховной плоти. «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человека благоволение» - поют ангелы под Вифлиемской Звездой (Лк 2, 14). Звери (точнее - животные, вол и осел) первыми приходят к родившемуся от Девы Младенцу в вертепе - так, как это изображено на иконе Рождества, и Он сам, начиная Свое служение, прежде чем идти к людям - идет в пустыню ко зверям и ангелам: «И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему» (Мк 1, 13). В этом было бы что-то невмещаемое разумом, если только мы не вспомним, что в зверях-животных, как это ни дико звучит, полнее чем в человеке сохранился райский образ невинной твари - ведь собственно «зверством» заражает их общение с падшим человеком, сами они не грешили. В стихотворении Гумилева, кстати, это помянуто:
Ни один из них вначале На других не нападет, Ни укусит, ни ужалит, Ни лягнет и ни боднет, -
т. е. ни один «зверь» по своему произволению в Рождество не обнаружит «зверства», если, конечно, «гета» и в это святое время не придет с винтовкой и не заразит весь собор животных, торжественно встречающих Бога, собственной звериной жаждой крови и смерти.
Звери острее чувствуют «этику» эпифании, «этику» покоя, нежели человек - так было и в райском саду, так продолжается и по сей день.
Заметим, что на кощунственность «африканской охоты» в Святую Ночь указывает «гете», т. е. «белому господину», европейцу, «гуманисту» и христианину - слуга африканец - и так поражает его этим деликатным «напоминанием», что в ответ у «геты» находится только растерянное и не очень, между прочем, благочестивое (в Святую Ночь, вообще-то нужно бодрствовать и молиться) приказание:
Я ответил: «Спать пора!»
Слуга - абиссинец, плоть от плоти Африки, с ее «звериной душой», вдруг оказывается более метафизически чутким, чем его хозяин-европеец. Это, кстати, заставляет вспомнить, что Африка, при всей своей «дикости» и греховной «безрассудности», является как-никак частью света, гораздо раньше принявшей в себя учение Христа, нежели Европа;более того, Африка дала убежище Младенцу Христу в самые первые месяцы Его земной жизни. Гумилев не забывает об этом, и, вспомним, завершает «Вступление» к «Шатру» обращением уже не к «грешной», а к «святой» Африке:
Дай скончаться под той сикоморою, Где с Христом отдыхала Мария.
И особая «греховность» и особая «святость» Африки в творчестве Гумилева целиком обуславливаются природным изобилием «черного континента», невиданным разнообразием и первозданной свежестью как растительных, так и животных форм. Об этом поминается во многих «африканских» стихах, а в первой редакции «Судана» мы находим рассказ о том, как Творец посылает в Африку особого ангела - садовода и художника, чтобы тот -
Сотворил отражение рая: Он раскинул тенистые рощи Прихотливых мимоз и акаций, Рассадил по холмам баобабы, В галереях лесов, где прохладно И светло, как в дорическом храме, Он провел многоводные реки И в могучем порыве восторга Создал тихое озеро Чад. А потом, улыбнувшись, как мальчик, Что придумал забавную шутку, Он собрал здесь совсем небывалых, Удивительных птиц и животных. Краски взяв у пустынных закатов, Попугаям он крылья раскрасил, Дал слону он клыки, что белее Облаков африканского неба, Льва одел золотою одеждой И пятнистой одел леопарда, Сделал рок, как янтарь, носорогу, Дал газели девичьи глаза. <...> Бродят звери, как Бог им назначил, К водопою сбираются вместе И не знают, что дивно прекрасны, Что таких, как они не отыщешь...
Именно изобилие природной материи, возмущаясь, погружают Африку в «оглушительный рев и топот», «облекают» ее в «пламя и дымы». Но на фоне этого исступления «звериной души», кажутся особенно метафизически глубокими те мгновения успокоения, природной тишины, переживая которые лирический герой Гумилева (а вместе с ним и читатель) открывает перед собой тайну той первозданной твари, которая есть «добро зело». Таков, например, пейзаж ночного Красного моря:
И огнями бенгальскими сразу мерцать Начинают твои колдовские струи, Искры в них и лучи, словно хочешь создать, Позавидовав небу, ты звезды свои. И когда выплывает луна на зенит, Ветр проносится, запахи леса тая, От Суэца до Баб-эль-Мандеба звенит, Как эолова арфа поверхность твоя. На обрывистый берег выходят слоны, Чутко слушая волн набегающих шум, Обожать отраженье ущербной луны, Подступают к воде и боятся акул.
И неслучайно, конечно, эта дивная картина завершается «библейской» строфой:
И ты помнишь, как, только одно из морей, Ты исполнило некогда Божий закон, Разорвало могучие сплавы зыбей, Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон.
Точно так же описание буйной «дневной» жизни Судана сменяется (в первом варианте стихотворения) описанием «вечернего» покоя:
Вечер. Глаз различить не умеет Ярких нитей на поясе белом; Это знак, что должны мусульмане Пред Аллахом свершить омовенье, Тот водой, кто в лесу над рекою, Тот песком, что в безводной пустыне. И от голых песчаных утесов Беспокойного Красного моря До зеленых валов многопенных Атлантического океана Люди молятся. Тихо в Судане, И над ним, над огромным ребенком, Верю, верю, склоняется Бог.
В творчестве Гумилева «бурная» природа является отражением человеческих страстей, «тихая» - напоминанием о рае; в стихийном возмущении человек созерцает собственный грех, в природном покое - благость Творца. Так образы мощных деревьев вызывают у лирического героя Гумилева размышления о «величье совершенной жизни»:
Я знаю, что деревьям, а не нам, Дано величье совершенной жизни, На ласковой земле, сестре звездам, Мы - на чужбине, а они - в отчизне.
(«Деревья»)
Деревья оказываются родственными не нынешней земле, облеченной в «нищенские одежды» греха, а той самой «звезде, огнем пронизанной насквозь», о которой мечтал и которую никак не мог представить герой «Природы». Мы уже знаем, что таковой была земля до грехопадения Адама, земля рая, пронизанная Святым Духом, огненная. «Величьем совершенной жизни», таким образом, оказывается райский покой, присущий ныне, отчасти, только самыми могучими деревьями, как бы сохраняющими незыблемое, статичное положение среди общего стихийного треволнения окружающего их мироздания (Гумилев называет дуб, пальму, вяз, сикомору). Созерцание деревьев вызывает у лирического героя желание, которое в святоотеческих творениях называется «беганьем мира», т. е. «устранение от мирских дел» (преподобный Исаак Сирин), а также желание «безмолвия»:
О, если бы и мне найти страну, В которой мог не плакать и не петь я, Безмолвно поднимаясь в вышину Неисчислимые тысячелетья!
И «беганье мира», и «безмолвие» - аскетические упражнения, ведущие христианина к устроению жизни на основаниях, приближающихся к райскому бытию, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная» - т.е. «натурфилософское» созерцание дает наглядный урок духовных добродетелей. Именно эта «позитивная» сторона православной «натурфилософии» давала Гумилеву повод «не печалиться», видя в природе «сфинкса без загадки»:
Я не печалюсь, что с природы Покров, ее скрывавший, снят, Что древний лес, седые воды Не кроют фавнов и наяд. Не человеческою речью Гудят пустынные ветра, И не усталость человечью Нам возвещают вечера. Нет, в этих медленных, инертных Преображеньях естества - Залог бессмертия для смертных, Первоначальные слова.
«Природа» не имеет своих собственных «слов», которыми она могла бы поведать человеку, некие «новые» истины, отличные от тех, которые он усваивает в Священном Писании и Предании. Но, при этом, природа является воплощением Первоначальных Слов, произнесенных «в начале» Творцом - и в таковом качестве, действительно является «залогом бессмертия для смертных», ибо «читая» этот «текст» человек лично утверждается в бытии и благости его Автора. «Вся земля, исполненная славы Господа Саваофа... поведает носимую на себе славу человеку, который один только на земле может понимать ее хвалебные вещания. Таким образом, человек составляет живую связь между небом и землей, между творцом и тварью. Чрез его сознание и свободу приносится к Творцу бессознательное славословие земных тварей. Созерцая совершенства Божии в природе, сознавая еще высшие совершенства в своем собственном существе, раскрывая в себе образ Божий стремление и уподоблением Первообразу, восполняясь богоподобными совершенствами, человек сознательно и свободно прославляет Господа и таким образом... возносит славословие и свое и всех подчиненных ему тварей великому Творцу вселенной» (Премудрость и благость Божия. Пг., 1918. С. 75-76; цит. по: Протоиерей Ливерий Воронов. Догматическое богословие. М., 1994. С. 18).
О «словесном священнодействии», доступном лишь человеку, созерцающему литургийную «партитуру» тварного природного бытия, Гумилев рассказывает в своей сказке-притче о «Драконе», перетолковывая в духе христианской натурфилософии модную в то время в декадентских литературных кругах оккультную легенду о «видении» Гермеса Трисмегиста (т. е. «Триждывеликого»), мифического «величайшего мудреца Египта», который дал основы «высшего знания» последующим «тайным мистическим учениям» всех времен и народов (эта легенда была создана в эпоху позднего эллинизма (III в. по Р. Х. ), и активно использовалась затем в масонских ложах XVII - ХIХ вв. при создании разнообразных «секретных герметических документов», самым известным из которых является знаменитая «Изумрудная скрижаль» - см.: Энциклопедический словарь. Т. Х III/ Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Б.г. Стб. 293-296; Мифологический словарь. М., 1991. С. 151). В компилятивном изложении М.-П. Холла эта история выглядит так: «Гермес, бродя однажды по пустынному и горному месту, предался медитациям и молитвам. Следуя секретным инструкциям Храма, он постепенно освободил свое высшее сознание от бремени телесных чувств, и освобожденная таким образом его душа открылась таинствам трансцедентальных сфер. Он узрил фигуру, страшную и ужасающую. Это был Великий Дракон, с крыльями, закрывающими все небо, изрыгавший во всех направлениях огонь (Мистерии учат, что Универсальная Жизнь персонифицирована в виде дракона). Великий Дракон воззвал к Гермесу и спросил его, зачем он размышляет о Мировой Мистерии. Потрясенный увиденным, Гермес простерся перед Драконом, умоляя раскрыть его подлинное имя. Огромное создание ответило, что его имя Помандрес, Ум Вселенной, Творческий Разум и Абсолютный Повелитель всего... Гермес умолил Помандреса раскрыть природу Вселенной и суть богов. Дракон неохотно согласился, взяв с Трисмегиста слово хранить в уме его образ» (Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцерской герметической философии. Новосибирск, 1993. С. 115).
Гумилев, как уже говорилось, использует образы этой легенды для того, чтобы создать совершенно иную картину взаимоотношений «человека» и «дракона» (под последним разумеется в гумилевской поэме символ природного бытия). Скажем мимоходом, что это желание Гумилева говорить с современниками на языке современной ему литературы, насквозь пронизанной оккультной образностью, спровоцировало многих почтенных исследователей на поиски «оккультных начал» в миросозерцании поэта - т. е., коль скоро речь идет о «классическом» Гумилеве, на занятие безнадежное: оккультную символику Гумилев просто использовал для создания назидательных «христианских сказок», следуя здесь за Толкиеном и К. С. Льюисом.
В начале поэмы рисуется образ «медленных, инертных преображений естества» - «бессмысленной» жизни природы:
Освежив горячее тело Благовонной ночною тьмой, Вновь берется земля за дело, Непонятное ей самой. Наливает зеленым соком Детски нежные стебли трав И багряным, дивно высоким Благородное сердце льва. И, всегда желая иного, На голодный жаркий песок Проливает снова и снова И зеленый и красный сок. С сотворенья мира стократы Умирая, менялся прах: Этот камень рычал когда-то, Этот плющ парил в облаках. Убивая и воскрешая, Набухать вселенской душой - В этом воля земли святая, Непонятная ей самой.
Средоточием этого бытия, «чашей священной / Для вина первозданных сил» и является «золоточешуйчатый дракон», спящий «десять веков» на волшебной «аметистовой скале». В поэме Гумилева речь идет о пробуждении дракона-природы, причем первым желанием его по пробуждении является желание смерти:
Пробудился дракон и поднял Янтари грозовых зрачков. Первый раз он взглянул сегодня После сна десяти веков. И ему не казалось светлым Солнце, юное для людей. Был как будто засыпан пеплом Жар пылавших в море огней. Но иная радость глубоко В сердце зрела, как сладкий плод. Он почуял веянье рока, Милой смерти неслышный лет. Говор моря и ветер южный Заводили песню одну: «Ты простишься с землей ненужной И уйдешь домой, в тишину. О твое усталое тело Притупила жизнь острие. Губы смерти нежны и бело Молодое лицо ее».
«Усталая» от многовекового «непонятного ей самой» напряжения сил природа хочет умереть, рассыпаться в «хаосе» своих собственных бессмысленных порывов. Но тут является человек:
А с востока, из мглы белесой, Где в лесу змеилась тропа, Превышая вершину леса Ярко-красной повязкой лба, Пальм стройней и крепче платанов, Неуклонней разлива рек, В одеяниях сребротканных Шел неведомый человек. Шел один, спокойно и строго Опуская глаза, как тот, Кто давно знакомой дорогой Много дней и ночей идет. И казалось, земля бежала Под его стопы, как вода, Смоляною доской лежала На груди его борода. Точно высечен из гранита, Лик был светел, но взгляд тяжел... Жрец Лемурии, Морадита К золотому дракону шел.
Следующий затем диалог Морадиты с «золотым драконом» в полной мере раскрывает именно христианскую «натурфилософскую» диалектику, которая полностью преображает историю «видения» Гермеса, хотя Морадита, также как и «Трижды Великий» идет к дракону за знанием:
Много лет провел я во мраке, Постигая смысл бытия, Видишь, знаю святые знаки, Что хранит твоя чешуя. Отблеск их от солнца до меди Изучил я и ночью и днем, Я следил, как во сне ты бредил, Переменным горя огнем. И я знаю, что заповедней Этих сфер, и крестов, и чаш, Пробудившись в день свой последний, Нам ты знанье свое отдашь. Зарожденье, преображенье, И ужасный конец миров Ты за ревностное служенье От своих не скроешь жрецов».
Более того, точно так, как и в «Помандресе», драконмедлит с ответом на просьбу человека и, поначалу, отвечает ему насмешливым отказом:
«Разве в мире сильных не стало, Что тебе я знанье отдам? Я вручу его розе алой, Водопадам и облакам; Я вручу его кряжам горным, Стражам косного бытия, Семизвездию, в небе черном Изогнувшемуся, как я, Или ветру, сыну Удачи, Что свою прославляет мать, Но не твари с кровью горячей, Не умеющей сверкать!».
Однако, у Гумилева присутствует существенная деталь, резко меняющая все содержание диалога: он до поры, до времени ведется без слов, с помощью таинственных знаков - образов, которые жрец чертит перед драконом на песке, а дракон «отвечает» ему «переменным блеском» своей чешуи:
Не хотел открыть Морадита Зверю тайны чудесной слов.
Получается, что, во-первых, дракон не понимает, с кем он вступил в диалог: в человеке он видит до поры только «тварь с горячей кровью», т. е. телесное существо, слабое и смертное и, следовательно, целиком подчиненное ему - средоточию «первозданных сил» стихии. Во-вторых, «тайна чудесная слов», о которой дракон и не подозревает, показывает, какой характер имеет его «знание»: это отнюдь не «мудрость» абсолютного ума», а, скорее, «информация» хранителя представлений овнешних законах, управляющих «инертными преображеньями естества». Поэтому и Морадита, с полным почтением обратившийся поначалу к «владыке», затем, видя упрямство «зверя» начинает сердиться:
Засверкали в ответ чешуи На взнесенной мостом спине, Как сверкают речные струи При склоняющейся луне. И, кусая губы сердито, Подавляя потоки слов, Стал читать на них Морадита Сочетанье черт и крестов...
В тот миг, когда Морадита произносит первое слово - природа покоряется ему и призрачная власть дракона исчезает:
Солнце вспыхнуло красным жаром И надтреснуло. Метеор Оторвался и легким паром От него рванулся в простор. После многих тысячелетий Где-нибудь за Млечным Путем Он расскажет встречной комете О таинственном слове «ОМ». Океан взревел и, взметенный, Отступил горой серебра, Так отходит зверь, обожженный Головней людского костра. Ветви лапчатые платанов, Распластавшись легли на песок, Никакой напор ураганов Так согнуть их досель не мог. И звенело болью мгновенной, Тонким воздухом и огнем Сотрясая тело вселенной, Заповедное слово «ОМ».
В поэме Гумилева встреча «человека» с «драконом» рисуется, прежде всего, как встреча «высшего» с «низшим», «начальника» с «подчиненным». «Дракон» обуян «волей к смерти», его собственное бытие не представляется ценным, ибо он не знает его цели, однако человек, которому эта «цель» известна, не может допустить «смерти дракона» и насильно спасает его, ценой собственных страданий:
Понял жрец, что страшна потеря, И что смерти не обмануть, Поднял правую лапу зверя И себе положил на грудь. Капли крови из свежей раны Потекли, красны и теплы, Как ключи на заре багряной Из глубин мировой скалы. Дивной перевязью священной Заалели ее струи На мерцании драгоценной Золотеющей чешуи. Точно солнце в рассветном небе, Наливался жизнью дракон, Крылья рвались по ветру, гребень Петушиный встал, обагрен. И когда, без слов, без движенья, Взором жрец его вновь спросил О рожденье, преображенье И конце первозданных сил, Переливы чешуй далече Озарили уступы круч, Точно голос нечеловечий, Превращенный из звука в луч.
В «Драконе» Гумилева - если сравнить его с легендой о Гермесе и «Великом Драконе - Помандресе» - мы имеем яркий образец, того, что Андрей Белый любил называть «мистической иронией». Вместо грозного и страшного космического «Мирового Разума», который затем оповещает Гермеса, что он - «его бог» - немощное, жалкое, упрямое, издыхающее животное, с которым человек если и вынужден бороться, то только лишь сознавая свою личную ответственность за неразумную и больную тварь, на которой, все же, напечатлены «священные знаки», напоминающие о благости и величии Творца. Но с точки зрения православного натурфилософского персонализма, такой взгляд на отношения человека и природы, конечно, не вызывает никакого иронического отрицания. «...Ничто не может быть более чуждо древнееврейскому, а вслед за ним и христианскому мышлению, нежели отрицание или умаление тварного мира, - отмечает современный западный историк богословской мысли. - Библейское отношение отражает стремление к истине. Оно проповедует не отказ от размышлений, но способность различать. Благодаря этому различению Богу возвращается Богово. Тварь не ставит себя на место Творца; ее не обожествляют, не творят из нее кумира. Именно в этом смысле в Библии происходит расколдовывание и десакрализация мира. Но это не значит, что мир в свете Библии перестает быть чудесным и утрачивает свою священную реальность. Он просто не будет низводить это явление до своего собственного уровня и использовать его для своей выгоды. Мир восстанавливается в своем относительном статусе, в подчиненной функции свидетеля, посредника, литурга. Творение воспевает славу Богу («всякое дыхание да хвалит Господа» - учат псалмы). А человек в Творении занимает место господина, назначенного свыше, верховного жреца, первосвященника, призванного собрать воедино хвалу, возносимую Богу, рассеянную по всей Вселенной. Благодаря этому законному и преданному ходатайству хвала возносится к Единому Владыке Господу» (Бастер Ж. Песнь Творения // Христианство и экология. СПб., 1997. С. 177).
Содержание:
- Оглавление
- Вместо предисловия
- Часть первая. Главы первая-третья
- Часть вторая. Глава первая. Человек, крестящийся на церкви
- Часть вторая. Глава вторая. Потомок Адама
- Часть вторая. Глава третья. Сфинкс без загадки
- Часть вторая. Глава четвертая. На грани истории
- Часть вторая. Глава пятая. Жизнь настоящая
Материалы по теме:
💬 О Гумилёве…
- Юрий Зобнин. Вместо предисловия
- Юрий Зобнин. Часть первая. Главы первая-третья
- Юрий Зобнин. Часть вторая. Глава первая. Человек, крестящийся на церкви
- Юрий Зобнин. Часть вторая. Глава вторая. Потомок Адама
- Юрий Зобнин. Часть вторая. Глава четвертая. На грани истории
- Юрий Зобнин. Часть вторая. Глава пятая. Жизнь настоящая